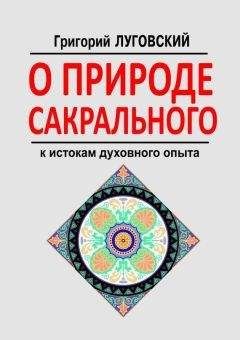Любое обращение к инобытию предполагает особый язык, разрушающий обыденность и именуемый «языком поэзии» (как в «Эдде»), либо «языком богов», «языком шаманов»118. Основной чертой иноговорения является обилие непонятных для профанного большинства слов (поэтому различные социальные группы в историческом обществе, желая отделиться или выделиться, создают собственную лексику, либо пользуются иностранным языком). Шаманы некоторых племен в ритуальном экстазе начинали вещать на языках соседних племен, или наполняли речь непонятными большинству словами «языка духов». Иноговорят и апостолы в Библии, будучи одержимы Святым Духом. Чужое слово звучит как новое, то есть не испорченное обыденной речью, не обросшее нежелательными смыслами (поэтому я почти не использую вместо термина «сакральное» славянский его аналог «священное»).
Философия представляет собой сферу, постоянно порождающую священные тексты, в которых, как и в поэзии, уничтожена обыденная реальность, моделируется хаос первотворения, но не посредством образных (правополушарных) метафор, а благодаря абстрагированию от образов реальности, достигаемому с помощью особого иноговорения. Любая философская концепция имеет в своей основе некий сакральный принцип, фундамент, на котором зиждется вся система, будь то эйдос, форма, монада, диалектика, эволюция, бессознательное, ноосфера и т. п. Язык философии, не смотря на кажущуюся научность, удаленность от поэзии, также представляется системой метафор и символов (правда, левополушарных), причем пользуются философскими терминами порой столь же ассоциативно, как и поэтическими средствами, так как смысл, вложенный в термин его творцом, не всегда может быть передан без искажений. Поскольку священный текст – метафора мира, то философы часто предпочитают изучать и черпать мудрость в Писаниях (в широком смысле – к таким текстам относятся не только религиозные, но и философские). Цель любой философии – создание наиболее удачной метафоры мира, то есть нового сакрального текста. При этом в принципе не так важно – изучается ли сам мир, или уже его метафора. Иногда метафора метафоры не уводит нас от первосмысла, а даже способна приблизить к нему.
Человек священнодействующий
Известно, что трагический жанр берет свое начало в ритуале жертвоприношения. Переживаемый участниками обряда катарсис есть сакральный процесс преображения души созерцающей смерть Другого – как правило, лучшего, позитивного, наполненного жизнью. Как считает И. М. Фридман, опираясь на исследования О. М. Фрейденберг, трагический герой должен пережить в себе фазу смерти каждого из созерцающих119, а катарсис, тем самым, есть ритуальная смерть зрителя и его духовное возрождение – обновление – очищение. Очевидно, первобытный член социума переживал подобные состояния перерождения, то есть приобщения к сакральному, в трех случаях: 1) в обряде инициации, когда «умирал» дикий подросток и «рождался» полноправный член общества; 2) в ритуалах всевозможных переходов, символизировавших преодоление фазы погружения мира в хаос (яркий пример – новогодние празднества); 3) при со-участии в актах жертвоприношений, которые первоначально были человеческими. Приношение богам животных – позднее возникшая заместительная жертва, если речь идет не о тотемном животном, осмысляемом как мистический член рода и первопредок. Судя по фольклорным сюжетам, объектом жертвоприношения становился человек необычный – урод, красавец, либо герой. Отсюда уже более позднее почитание всевозможных героев, в том числе и тех, кто случайно оказался в сакральном месте-времени и лишь выполнял навязанные ему функции (тип «неизвестного солдата»; замечу, что хороший герой – мертвый герой для любой традиции).
Характерно, что личность, пользовавшаяся во все времена почитанием, должна быть необычной в смысле судьбы – страдальцем, жертвой, героем (чаще в одном лице). Здесь кроется еще одна профанация, позволившая передать власть сакральную в руки светских героев – тех, которых О. Вейнингер, противопоставляя священникам, назвал искателями120 (вспомним также тему сакральных путешествий, рассмотренную выше) – которые тут же превратили ее в орудие господства, положив начало истории в метафизическом ее смысле; истории как антимифа.
Если мы обратимся к истокам образа героя, то обнаружим, что он проявляет свои качества уже в процессе жертвования, то есть его героические свойства вторичны. Первичны аномальные качества жертвы. Наиболее характерный трагический герой Эдип – не только волюнтарист, но и мудрец, а также урод. Проведение героя не столь добродетельно, сколько аномально. Зритель переживает в трагедии не просто смерть, но смерть хаотического начала в себе (трикстеризм), влекущего к подвигам, приключениям, нарушениям норм (в этом суть популярности всевозможных боевиков и спортивных состязаний, особенно у мужчин – существ более хаотических, менее склонных к конформизму). Чем более напряжен конфликт между социальным и диким в душе, тем больше вероятность, что мы имеем дело с сакральной личностью. Все греческие герои, вдохнувшие трагический пафос в европейскую культуру, – существа не вполне людской природы, полубожества. Культ героев, возникший в Греции и привитый фаустовской культуре, возник из почитания умерших шаманов или подобных им сакральных лиц121. Ю. В. Андреев122 приводит множество примеров того, как мифические герои греков проявляют в своей деятельности шаманские черты. Похоже, классические греки достигли того уровня развития религиозных идей, на который несколько веков назад вступили сибирские буряты и юкагиры, почитавшие души умерших шаманов в качестве хранителей местностей, источников, родов и т. п.
В фигуре шамана наиболее четко отразились качества, принадлежащие сакральной личности в соответствии с реконструируемой нами первобытной концепцией священного. Здесь эти свойства настолько рельефны, что можно предположить: шаман как социобиологический феномен был первым, в ком человеческое праобщество «открыло» сакральное. Собственно, сам шаман и являлся, видимо, открывателем, поскольку, будучи существом двойственной природы, полукультурным-полудиким, он, по логике первобытного сознания, только и мог быть проводником инноваций в обустроенный, «готовый» мир. Выше мы постоянно говорили, что сакральное диктует обществу нормы поведения, предупреждает его, ниспосылает знаки, требующий расшифровки. Но поскольку священное можно понять, лишь зная его язык, то, очевидно, что только шаман – сакральная личность – мог выявить и читать знаки инобытия; сакральное проявляло свою созидательную благую сущность через фигуру человека священнодействующего. Без шамана и фетиш, и магический акт не только не состоятся, но и не имеют смысла. Сакральные сущности отыскивались в действительности по образу и подобию шамана. Это очень наглядно иллюстрирует и следующая цитата: «Слово «эль лайк'а» обозначает колдун. Индейские дети играют черными плодами дерева, растущего в горах. Но иногда среди тысяч черных попадается плод с красными и желтыми прожилками. Это и есть лайк'а. Ему придаются магические свойства: он непобедим и стоит сотни обычных. Контраст между черными и красными плодами кажется загадочным, особенно когда этот контраст является произведением самой природы. Всегда черный плод, но вот встретился красный с желтыми пятнами. Индейцы верят в его чудодейственную силу. Его хранят и оберегают с суеверным страхом, достают лишь в исключительных случаях, когда нет другого выхода из какого-нибудь затруднительного положения. Это – эль лайк'а – колдун, воплощение дьявола… Лайк'а, таким образом, представляет из себя колдуна, способного причинить порчу, сглазить. Правда, иногда он помогает лечить страшные болезни – безумие, истерию, бессонницу и страх. Он лечит нервных и напуганных детей, применяя для них «мягкий» вариант системы исцеления. Он рассказывает больному ребенку истории об интересных животных, камнях, сказки про зачарованные озера, а когда тот почти засыпает, склоняется над ним и, словно заклинание, произносит отрешенным голосом: «Душа, душа этого ребенка, где ты, где ты бродишь, вернись на свое место! Хорошая душа, смотри, как я жду тебя, как я плачу по тебе, вернись, я уже сплю!»123.
Первейшее свойство человека священнодействующего – созидание нового, творение, поэтому ученые справедливо сближают фигуру шамана с позднее отпочковавшимися от него поэтом, художником, артистом, философом, жрецом (добавим к этому ряду еще и педагога, правоохранителя, журналиста). Первобытная культура, «обязательная» для профанного большинства, творилась теми, кто был вправе ее «нарушать». Шаманы и колдуны выступали для соплеменников как лица амбивалентные, с одной стороны руководящие ритуалами и даже процессом изготовления орудий культа, с другой же – погребавшиеся особым образом, отличным от погребений сородичей, как чужаки124. Шаман рассматривался как единственный, кому позволительно нарушать нормы социальной жизни, а также заниматься магией125. Поздние юродивые, как, впрочем, и святые праведники – две формы отклонения от нормы, наследующие те, или иные качества шаманов.