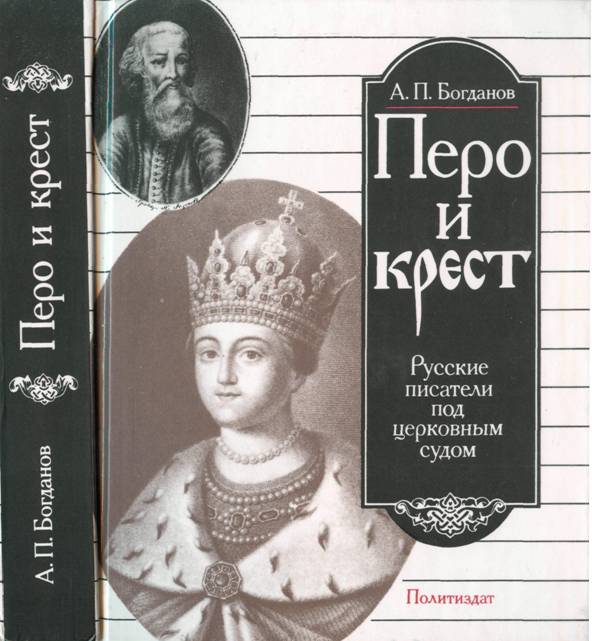князей, сын известного опричника и боевого воеводы (недавно скончавшегося) князь Иван Андреевич Хворостинин-Старков [2]. Овеянный романтикой драматической легенды и славой мужественного воина, доброжелательный и дерзкий в планах, умный, начитанный и ловкий, Лжедмитрий I увлекал придворную молодежь грандиозными замыслами, призраком будущей славы и удалым разгулом в настоящем. Потрясенный открывшимся перед ним полем деятельности, Хворостинин активно впитывал ворвавшуюся в московские терема западноевропейскую культуру, изучал латынь, беседовал с католическими и лютеранскими богословами.
В скором времени князь Иван стал ближайшим слугой и участником всех развлечений государя, в том числе дурного свойства, типа лихих налетов на женские монастыри. По молодости и неопытности Хворостинин сумел досадить многим, даже нидерландскому резиденту Исааку Массе, в своих воспоминаниях назвавшему князя „надменным и все себе позволявшим мальчишкой"; хитрый голландец отомстил ему, бросив с пера уже столетия смущающую историков фразу, что Лжедмитрий „растлил 30 девиц и юного князя Хворости-нина" [3].
Когда Хворостинин уже в зрелом возрасте писал свои „Словеса дней, и царей, и святителей", он понимал, что Лжедмитрий оказался недостаточно „крепок" для трона, имея при внешнем блеске „мерзость запустения в сердце"; что он „не царь, а законопреступник и хульник иноческого жития, а не владыка, не князь". Но главным орудием свержения Лжедмитрия стали религиозные мотивы, прикрывавшие разочарование многих и личные интересы организаторов переворота.
О том, насколько значительный эффект имело „неблагочестие" Лжедмитрия I, свидетельствует такой эпизод, приведенный князем в „Словесах". Царь в разгар своих холостяцких приключений возвел потешный дворец, полный всяческих выдумок и богато украшенный, гордо похваляясь этим „не господственным делом". Князь Иван, будучи наиболее любимым его приближенным, горько укорил царя: „Блуднические хоромы златом довольно украсив, мнишь оставить по себе вечную память", возносясь над самим богом, вместо того чтобы возвести храм. Потрясенный этим упреком, Лжедмитрий стал наедине расспрашивать князя Ивана: „Ты ли злое помыслил на меня?!" - Нет, - отвечал Хворостинин, - я не отрекся от тебя и не отрекусь, более всего своего спасения хочу зреть твое здравие, но не воздам чести тебе, царю-человеку, более славы Божьей. От твоей милости, самодержец, никакое зло не может меня отторгнуть, кроме низвержения христианского закона.
Лжедмитрий не разгневался, лишь закрыл Хворостинину рот рукой, не желая слышать упреков. Но он и не прислушался к предупреждениям сторонников, ибо, своей мыслью и делами возвысившись, считал возможным „устроить самодержавие выше человеческих обычаев", невзирая на мнение других. Он сверг уважаемого всеми патриарха Иова и поставил на его место верного себе Игнатия, деятельность которого заставила боголюбивых людей пролить потоки слез.
Пока Игнатий „сердца сокрушал любящих Господа", Лжедмитрий женился на Марине Мнишек, причем верный ему Хворостинин как кравчий наливал молодым вино за царским столом. В „Словесах" князь благоразумно опустил этот эпизод, но гневно воскликнул: „Царским венчался венцом, сущий отступник!" Падение Лжедмитрия I было предрешено.
Организатор его убийства князь Василий Шуйский захватил власть хитростью, улестив знатных показным смирением, остальных - подарками и обещаниями. Издревле Шуйские „были властолюбцы, а не боголюб-цы", хоть и подняли знамя спасения веры! „И так принял Василий хоругви царские многими своими трудами, и отер пот своей злой и лестной измены".
Хворостинина передергивало от ярости, когда он писал о Шуйском - бездарном правителе, несколько лет тащившем страну по кровавым ухабам затяжной гражданской войны. Но князь не мог не отметить, что сразу по приходе к власти царь был весьма внимателен и милостив к подданным, „милостивое всем людям благодеяние обещал сотворить и теми словами христианское множество желал любовью возжечь и в благохвальное состояние привести".
Без всякого понуждения Василий Шуйский публично, в соборной церкви, поклялся царствовать справедливо и на благо подданных, а с народа взял клятву верности. „Но разве человеческая природа знает желание свое?" Своим неискусным умом Шуйский сам нарушил клятву, „и поднялась на него держава его, и преступили клятву, которой клялись ему, и во дни его всякая правда уснула, и суда истинного не было, и любовь к чести иссякла".
Среди всех, выступивших против Шуйского, Хворостинин справедливо выделяет участников Крестьянской войны под руководством Ивана Исаевича Болотникова. Именно эти люди, „бросив плуги свои, и одевшись в брони, и препоясавшись оружием", стали громить правительственные полки и брать один за другим города. Знать, „братия" князя Ивана Андреевича, терпела поражения „от единоплеменных". И вновь автор не только укоряет царя Василия, который „в туге и скорби был", но и отдает должное упорству, с которым тот „утверждался и сопротивлялся" крестьянской армии: „…когда своих воинов губил, когда их (восставших) многое ополчение разбивал и бесчисленную кровь врагов своих различно проливал".
Хворостинин глубоко прозревал изменения, происходившие в Шуйском, царившем в Москве, когда против него поднимались одна за другой земли Руси, толпы искателей поживы из Речи Посполитой и Швеции заполоняли страну. Как и Годунов, царь Василий метался от благочестивого украшения храмов к чародейству и гаданию, „неверием от многого сетования объят был и в буйство уклонился", стал прислушиваться к „ложным шептаниям" и „своих людей оскорбил, злосердием движим". Оскорбляя православных, он окружил себя толпой лживых наветчиков, „изменив свой первоначальный обычай", и долго безуспешно боролся со своими врагами.
Свержение Шуйского с престола было весьма неоднозначным событием: ведь неспособный одержать победу над восставшими против „боярского царя", царь Василий все же олицетворял собой единство пусть и охваченного междоусобием государства. Когда прославленный воевода князь Федор Иванович Волконский „и с ним иные мелкие дворяне", не испугавшись жестокой расправы над участниками предыдущих заговоров, схватили Шуйского прямо во дворце, гражданская война в России вошла в решительную и самую кровавую стадию.
Размышляя над этим событием, князь Хворостинин признает, что Шуйский дал основания для ненависти к себе и не случайно „в пятое лето державы его наполнились лютой ревностью" люди на него и братью его, поднялись от бояр и до простолюдинов, но, считает автор, их нельзя одобрить, - поднялись, „подстрекая и подущая малоумных и не имеющих страха Божия, полагающих свет во тьму, называя горькое сладким и сладкое горьким, не боясь крестной клятвы, завистью и гневом отлучили царя от престола".
Эта оценка тем более удивительна для того черно-белого времени, когда в ожесточении борьбы люди склонны были делить всех только на друзей и врагов, что сам Хворостинин сильно пострадал от царя Василия. „Как ты был при Ростриге (Лжедмитрии I. - А. Б.) у него близко, - гласило обвинение Хворостинину, - и ты впал в ересь, и в вере пошатался, и православную веру хулил, и постов и христианского обычая не хранил, и при царе и великом князе Василии Ивановиче всеа Русии