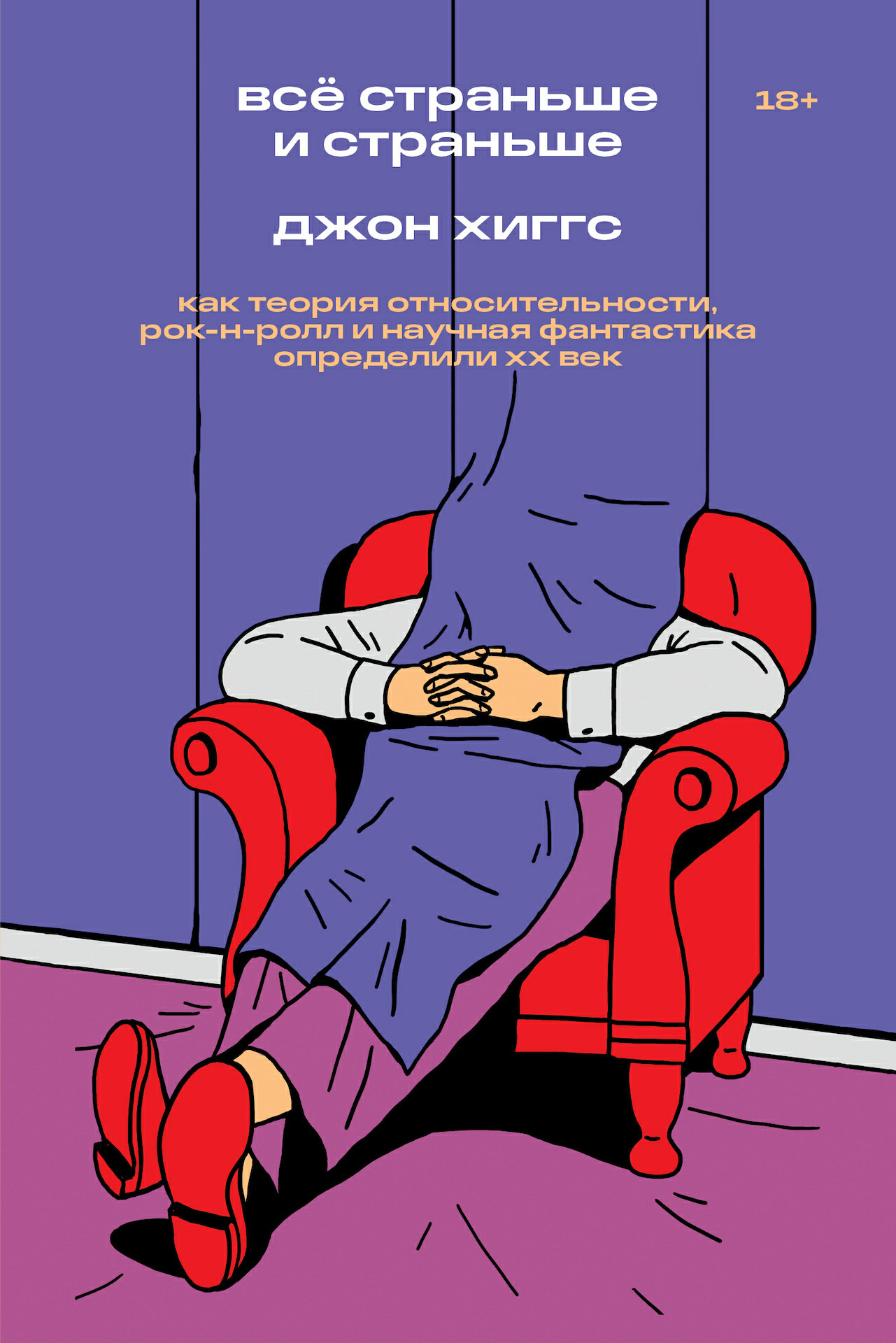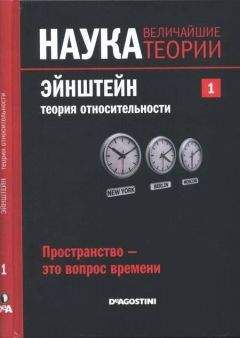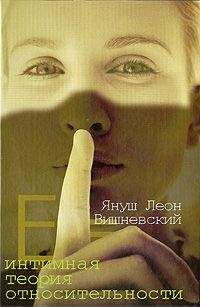(«Auld Lang Syne»): «Мы здесь потому, что мы здесь, что мы здесь, потому что мы здесь…»
Ремарк, Сассун и другие писатели-солдаты и писательницы – сестры милосердия, подобные Вере Бриттен, надели форму не в поисках выгоды. Они надели ее по приказу своего короля, кайзера или императора. Большинство этих солдат были патриотами и пошли воевать добровольцами на волне великого народного энтузиазма. После Рождества 1914 года война и не думала кончаться, и вера солдат в то, что они воюют не напрасно, пошла на убыль. К 1917 году ее совсем не осталось. В ранней военной поэзии ожидаемо звучат темы славы и доблести, как, например, в стихотворении «Солдат» Руперта Брука («Коль я умру, знай вот что обо мне: / Есть тихий уголок в чужой земле, / Который будет Англией всегда» [25]), но эти мотивы смолкли, когда военные поэты увидели подлинную сущность войны. Те, кто успел – в отличие от Брука, умершего в 1915 году по дороге в Галлиполи.
Почему реальность Первой мировой войны так жестоко обманула ожидания народов? Почему война вопреки всем прогнозам и представлениям не закончилась к Рождеству? Ответ – отчасти в технологиях. Первая мировая была первой индустриализированной войной.
До XX века техническое развитие считали прогрессом. Случалось, внедрение новых технологий вызывало протесты: наиболее известны луддиты, громившие в начале XIX века промышленное оборудование, применение которого губило традиционные отрасли производства. Но по большей части люди одобряли технический прогресс, видя в нем путь к росту экономики и господству человека над природой. Технологии расширяли спектр человеческих возможностей. Паровая машина перемещает тяжелые грузы, автомобили и велосипеды быстро доставят в нужную точку, а телескопы и микроскопы показывают то, что не видно простым глазом. Техника стала мощным и точным инструментом, исполняющим желания человека. Но где-то в начале XX века она стала выходить из-под его власти. Грандиозные катастрофы, такие как гибель «Титаника», затонувшего в первом же рейсе, или поглощенного пламенем пассажирского дирижабля «Гинденбург», показали оборотную сторону прогресса. Технологии XX века принесли опасность антропогенных катастроф, не менее разрушительных, чем стихийные бедствия. А появление псевдонауки евгеники, имевшей цель «улучшить» человеческую расу путем закрепления определенных генетических черт, доказало, что прогрессу нет дела до человеческих чувств, таких как сопереживание или забота о ближнем.
Профессиональные военные в Первую мировую отправлялись на фронт обученными традиционным военным навыкам – верховой езде и фехтованию, – но вскоре на смену коннице пришли танки, газ и пулеметы. Постепенно профессиональные военные оказались в меньшинстве среди добровольцев и призывников. Солдаты больше не скакали по полю на противника геройским галопом, а прятались в сырых траншеях, оставаясь на одном месте месяцами, а то и годами, среди крыс, при нехватке провизии и необходимых припасов, под градом снарядов.
Люди находились под огнем, грохот которого мог не стихать часами, днями, неделями: от оглушительных разрывов поблизости до низких раскатов вдалеке. Снаряд прилетал внезапно, будто из ниоткуда. И следующий всегда мог оказаться последним. Тела и части тел тонули в грязи и воронках, чтобы снова выйти на поверхность от следующего попадания. Наследием артобстрелов по всему миру стало множество могил неизвестных солдат. Надгробья устанавливали после войны, под ними лежат безымянные останки, символизирующие всех погибших воинов. Люди, потерявшие близких, оплакивают неизвестного, который может оказаться кем угодно, – до такой степени Первая мировая дегуманизировала картину войны.
«Снарядный шок» (shellshock) – термин, придуманный для описания нервного истощения, вызванного условиями фронта. Но в те годы природу этого состояния понимали плохо и нередко отождествляли с трусостью или «слабостью воли». Теперь мы лучше знакомы с этим посттравматическим стрессовым расстройством, чьи синонимы варьируют от состояния близкого к кататонии до панического бегства, и дали ему еще одно название – боевое истощение. Одним словом, технологии сделали войну столь чудовищной, что психика солдат зачастую не может этого выдержать. За какие-то считаные годы ликование на вербовочных пунктах сменилось убежденностью: мировая война не должна повториться. Этот призыв утверждался в еще одном названии, которое вскоре получила Первая мировая, – война за истребление войн. Люди впервые осмелились представить, что такое неизбывное явление истории, как война, может исчезнуть навсегда, и в этот момент сознание человечества вышло на принципиально новый уровень.
Прогресс создал имперский мир и положил ему конец. Империи возникли, когда эгалитарное общество рухнуло под тяжестью разросшегося населения. Империи же рухнули, когда технический прогресс достиг точки, за которой войны стали недопустимы. Оказалось, что имперская модель – далеко не единственно возможный и обязательный способ устройства общества, каковым ее считали почти всю историю человечества. Эта система была уместна лишь на определенном этапе жизни общества и технического развития.
В индустриальном мире война стала неприемлема, а значит, настало время лишить императоров, кайзеров и царей их абсолютной власти. Они бездумно ввергли мир в катастрофу один раз и могли сделать это вновь. Концепция императора, одна из великих констант человеческой истории, ушла в прошлое. Невозможно представить, чтобы Император Нортон получал бесплатно еду, одежду и проезд, если б он объявился после Первой мировой войны.
Традиционный способ казни монарха – не виселица и не костер, а обезглавливание. Если монарх приговорен, придется рубить ему голову, в чем имели несчастье удостовериться Карл I в Англии и Людовик XVI во Франции. Этот способ казни весьма символичен. Отсекается не только физическая голова монарха, но и глава политической иерархии. Абсолютный монарх был омфалом, вокруг которого выстраивалось все общество. Пусть иной раз приходилось поспорить с министрами, но закон, а порой даже религия всегда были согласны с волей императора. Не всем нравились его решения, но все понимали, что власть – в его руках. Каждый знал свое место в иерархии и вел себя соответственно. Без императора-омфала общество превратилось бы в мешанину различных, относительных и индивидуальных взглядов, конкурирующих и рвущихся к власти.
Именно это и замечательно в тех переменах, что постигли человечество в первые десятилетия XX века. Внезапное падение императоров, правивших огромными территориями, означало демонтаж единственной и абсолютной жесткой системы взглядов. Мы уже видели это в других областях жизни. Одинаковые революции произошли почти одновременно в искусстве, в физике и в политической географии и по не связанным, как кажется на первый взгляд, причинам. Политики столкнулись с той же проблемой, что Эйнштейн, Пикассо, Шёнберг и Джойс: как действовать, если нет общей перспективы, подчиняющей разные точки зрения? Как примирить противоположные взгляды? Как двигаться дальше, если наши привычные способы мышления в корне ошибочны?
Французский анархист Марсьяль Бурден, взорвавший себя возле Гринвичской обсерватории, несомненно, был бы доволен, доживи он до этих событий. Но в дни, когда разваливалась имперская модель, мало кто