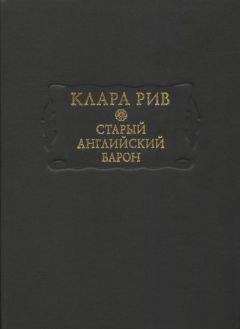Конечно, близость «Рассказа испанца» к «Монахине» не следует понимать буквально или преувеличивать: заимствовав у Дидро общие контуры сюжета, Метьюрин был самостоятелен в его разработке, аналитическом развитии и украшении существенными подробностями. Не забудем прежде всего, что у Дидро идет речь о молодой монахине, а у Метьюрина — о монахе, что у Дидро описан французский монастырь, а у Метьюрина — испанский, монастырь «экс-иезуитов» [90]. Никогда не бывший в Испании, Метьюрин тем не менее дал очень правдивую и яркую картину испанской монастырской действительности, — да и не только монастырской, и он сделал это с помощью ряда книг, которые сам назвал в тексте; такими источниками был для него нередко цитируемый «Дон-Кихот» Сервантеса и книги английских путешественников по Испании (например, Дж. Диллона, упоминаемого в гл. XXXIV). К ним следует прибавить и несколько других, хотя они и не названы. Такова, например, как мы предполагаем, большая и обстоятельно документированная на основании архивных материалов книга Хуана Антонио Льоренте «Критическая история испанской инквизиции», впервые вышедшая в Париже на французском языке в 1817 г. и тотчас же внесенная в Риме в индекс запрещенных книг. Отсюда Метьюрин мог взять ряд очень важных подробностей о ходе судебных процессов Инквизиции, о постоянных формулах решений и приговоров святейших трибуналов, описания аутодафе, одежды приговоренных и т. д.
Однако и то, что в повествовании Алонсо подсказано было собственной фантазией Метьюрина, представляется не только правдоподобным, но и органически присущим автору. Таков, например, рассказ о «чуде» в монастырском саду с иссякшим фонтаном и засохшим деревом, чуде, которое было сфабриковано монахом, немного знакомым с химией. Таков, наконец, потрясающий эпизод голодной смерти бегущих из монастыря любовников, замурованных живьем в склепе монастырского подземелья: очень возможно, что в этом эпизоде отражен рассказ об Уголино в «Аде» дантовской «Божественной Комедии». Английские исследователи допускают также, что Метьюрин знал «Капричос» Гойи [91], и это вполне вероятно, если принять во внимание пристальный интерес Метьюрина к картинам художников испанской школы, упоминаемых в тексте «Мельмота Скитальца» (X. Риберы, Мурильо и др.).
В начале XIV главы третьей книги «Мельмота Скитальца» «Рассказ испанца» внезапно прерывается «Повестью об индийских островитянах»: рукопись этой повести Алонсо читает в тайном подземном жилище мадридского еврея Адонии, где он нашел надежное убежище от преследования Инквизиции. Чтение этой рукописи заставляет Алонсо забыть на некоторое время превратности своей судьбы: «Взгляд мой невольно остановился на рукописи, которую мне предстояло переписывать», — замечает Алонсо, — «начав читать ее, я уже больше не мог оторваться от удивительного рассказа, пока не дошел до конца». Вместе с ним и читатель «Мельмота Скитальца» попадает в иной мир, идиллический и умиротворенный: по манере изложения и по своему стилю эта новая «вставная повесть» являла резкий контраст с предшествующими главами романа. От устрашающих событий в глухом монастыре и застенках Инквизиции мы переносимся в тропическую природу безлюдного острова Индийского океана, где одиноко выросла девушка Иммали, попавшая на этот остров ребенком, после гибели у его берегов европейского корабля со всеми людьми, ее сопровождавшими. Начало повести об Иммали походит на идиллическую «робинзонаду», проникнутую воздействием поэзии Вордсворта и других английских поэтов «озерной школы». Подобные идиллические «робинзонады», в стихах и в прозе, были очень популярны в предромантических и романтических литературах Европы [92], в том числе французской и английской, но сравнительно с ними в сюжет своей «Повести об индийских островитянах» Метьюрин внес очень существенное преобразование: действующими лицами являются здесь не дети, живущие на необитаемом острове среди экзотической природы, вдали от человеческого общества и цивилизации, а одинокая девушка, не имеющая никакого представления о мире, кроме того острова — маленького куска суши в океане, где она росла сама и где ее нашел в конце концов искуситель Мельмот.
Делая героиней этой повести европейскую девушку, одиноко возросшую, подобно экзотическому цветку, на далеком острове Индийского океана, Метьюрин продолжал галерею созданных им в более ранних произведениях пленительных женских образов: Иммали представляет собою дальнейшее развитие этого образа от Эрминии в «Семье Монторио» и Имогены в «Бертраме» до Евы в «За и против». Хотя Иммали в «Повести об индийских островитянах» и связана генетически со своими предшественницами в творчестве Метьюрина, но ее образ психологически усложнен, так как автор придумал для нее необычную, почти парадоксальную ситуацию и поручил ей пассивную роль. Начальные главы посвященной ей «Повести» почти не имеют действия и превращаются в длинный философский диалог, порою преобразуемый в монолог: дитя природы, ничего не знающее о добре и зле и никогда не покидавшее свой цветущий остров, Иммали слушает Мельмота, рассказывающего ей о мире и в качестве иллюстрации показывающего ей в подзорную трубу индийских фанатиков и изуверов.
Метьюрин в этой части своего романа поставил себе весьма трудные задачи: монолог Мельмота, прерываемый репликами недоумевающей Иммали, мог показаться читателям вялым и бесцветным; необходимо было также сделать ее понятливой ученицей, быстро усваивающей его критические суждения о современной цивилизации и соглашающейся с ним, для чего потребовалось много страниц. Необходимо было изобразить возникающее у Иммали чувство любви к Мельмоту и, что было еще труднее, — описать, как в сердце Мельмота помимо его воли возникает своего рода увлеченность этой странной девушкой, превращающейся в женщину. Весь эпизод любви «демона» к «девушке-христианке» изложен Метьюрином весьма поэтически; отдельные страницы повести об островитянах представляют собою настоящие стихотворения в прозе, какова, например, та простодушная песня об отчаянии и любви, которую поет Иммали перед надвигающейся бурей при шуме океана и зловещем завывании ветра (кн. III, гл. XVIII) [93]. Такова же следующая за этим сцена «первой свадьбы» при «обручении» Мельмота и Иммали на острове, когда, при блеске молний и разгуле стихий, он произносит: «Быть тому! под удары грома я обручаюсь с тобой, обреченная на погибель невеста! Ты будешь моей навеки! Приди, и мы скрепим наш союз перед алтарем природы…».
Первоначально идиллический роман между Иммали и Мельмотом развертывается на цветущем острове посреди лазури океана, под сенью пальм и тамариндов: локальные краски для описания природы, подробностей жизни бенгальцев, индуистской мифологии и т. д. Метьюркн, по его собственному указанию, взял из пятитомного труда своего современника Томаса Мориса (Maurice T., 1754–1824) «Индийские древности» («Indian Antiquities», London, 1800–1806), считавшегося в его время авторитетным справочником по вопросам религии, мифологии, культуры, государственных учреждений Индии и т. д. Метьюрин широко воспользовался не только текстом этого труда, но даже приложенными к нему иллюстрациями, кое-что в этом труде он, впрочем, не совсем понял, а может быть, и просто повторил ошибки Мориса (в собственных именах или деталях религиозной обрядности). Другим, не ученым, но поэтическим источником «Повести об индийских островитянах» были для Метьюрина «восточные поэмы» Роберта Саути (в особенности «Проклятие Кегамы», 1810, и ученое предисловие и примечания к ней) [94].
Об остальных «вставных повестях» — сентиментально-реалистической о семье Гусмана, в которой много автобиографического, а также о двух влюбленных, частично основанной на действительных фактах и представляющей собою исторический роман, речь уже шла выше. Очевидно, жанр исторической повести или романа очень привлекал писателя в то время, когда заканчивался «Мельмот Скиталец». Последним романом, написанным и напечатанным Метьюрином, был исторический роман «Альбигойцы» (1824), вышедший в свет незадолго до его смерти [95].
При всех своих выдающихся достоинствах «Мельмот Скиталец», как мы можем предположить, был написан Метьюрином в короткий срок. Торопливость была вызвана материальными затруднениями его семьи. Он спешил, чтобы получить обещанный издателями гонорар. Следы этой спешки остались даже в печатном тексте романа: неверным оказался порядковый счет глав в четырех книгах произведения; вероятно, по недосмотру автора одни и те же эпиграфы поставлены были при разных главах романа: так, например, древнегреческий эпиграф из «Илиады» Гомера был напечатан дважды — перед VI и XXV главами; одни и те же сравнения или цитаты также помещены в тексте романа по два или по нескольку раз, например о «статуе Мемнона» — в XXI и XXX главах; цитата из «Сатир» Ювенала приведена в главах V и XX; фраза из «Книги Иова» встречается в тексте даже три раза (в главах V, IX и XXI).