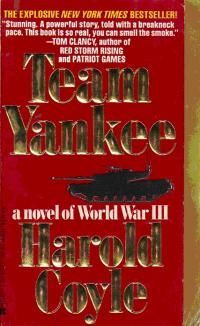— Ты, конечно, согласилась? — укорил муж.
Ратушняк утвердительно кивнула головой.
Муж обнял Эллу Федоровну за плечи и замолчал.
Разве можно лишить человека радости быть полезным другим, чувствовать себя на стремнине жизни?! Нет, это лучшее из чувств человек должен сохранить до последних дней.
Сентябрьское солнце стояло еще высоко, но его лучи уже не обжигали так, как летом.
Солнце ласкало город, порт со стальными кранами, суда, зябко покачивающиеся на рейде, и белокрылых чаек, с криком падающих в пенные гребни волн.
Моя никопольская командировка подходила к концу, пора возвращаться домой. Завтра — праздник, День Победы. В речном порту Никополя увидел знакомого. Широкое веснушчатое приветливое лицо. В детстве наверняка «рыжим» дразнили. Огненный цвет волос и веснушки делали человека моложе. А было ему за пятьдесят: орденские планки на пиджаке. Знакомый сидел с приятелем на скамейке. Приятель был помоложе, с модной бородкой. Они держали на коленях рисунки и спорили:
— Нет, не жертвам, а бойцам…
Рыжий приподнял шляпу и вежливо улыбнулся мне:
— Домой, в Запорожье?
Я кивнул в ответ и ответил любезностью на любезность:
— Попутчиками будете.
— К сожалению, нет, — развел руками рыжий. — Нам — на ту сторону. — Он показал большим пальцем через плечо, где за широким сверкающем зеркалом Каховского водохранилища белели среди буйной зелени аккуратные домики Каменки.
— И в праздник дела?
— По поводу памятника надо заехать, буквально на два часа, — ответил он. — Познакомьтесь, художник, скульптор…
Бородач протянул мускулистую, загорелую на первом весеннем солнце руку.
Фамилию скульптора я не запомнил, а рыжего звали Георгием Яковлевичем Николаюком. Он недавно ушел в запас и работал в музее. Заметки иногда в редакцию приносил о малоизвестных фактах военной поры. Писал он четким почерком и лаконично, как рапорта. Факты он обнаруживал удивительно интересные: заметки появлялись в газете. Последний раз, помню, принес он мне заметку о ребятах, расстрелянных во время фашистской оккупации в днепровских плавнях. Из отдела писем меня уже перевели тогда в промышленный, чтобы, как шутили коллеги, я свою поисковую прыть приложил к неиспользованным резервам производства. Раздосадованный этим переводом, я невнимательно выслушал в тот раз Николаюка и переадресовал его другому сотруднику. Заметку не напечатали. С автором мы не виделись года два. И вот встреча в Никополе, где я изучал новинки металлургии.
— Может, с нами? — предложил Николаюк. — А потом — домой вместе…
Я вспомнил его последний приход ко мне и согласился: вдруг да чем-то окажусь полезным. И не надолго же — всего два часа. Так мы очутились на старом, обшарпанном суденышке с висящими на его низких бортах облезлыми автопокрышками. За кормой суденышка вился пузырчатый, волнистый бурун.
— Пойдемте на левый борт, — предложил Николаюк. — Я вам кое-что покажу.
Мы протиснулись по узкой палубе и стали у надстройки с левого борта. Тут же, рискованно уперев левую ногу в торчащую над бортом автопокрышку, стоял бородатый спутник Николаюка с буханкой хлеба в руке. Сильными, цепкими пальцами он выщипывал из нутра буханки кусочки мякиша, сминал их в шарики и швырял налетающим на суденышко прожорливым чайкам. Птицы планировали, опережали друг друга, хватали добычу на лету. Иногда кусок падал на воду, тогда чайки выпускали лапки, как самолет шасси, и с криком садились на волны. Даже хвост едкого дыма из прокопченной трубы пароходика не мог отвлечь птиц от погони за легкой поживой.
— Кому баловство, а кому после чаек палубу драить, — пробурчал проходивший мимо матрос.
— Взгляните туда, — предложил Николаюк.
Я посмотрел: ничего, кроме блистающей на солнце водной ряби.
Николаюк заглянул в рубку и попросил бинокль.
— Теперь видите?
Теперь я увидел.
Сильные линзы увеличивали и приближали так, что, казалось, руку протяни и притронешься к скользкому бетонному монолиту, торчащему над поверхностью воды.
— Что это?
Мой спутник жестом попросил бинокль и вскинул его к глазам отработанным движением профессионального военного.
— Опоры железнодорожного моста. Здесь трагедия и началась.
— Да, жертв было немало, — заметил молчавший доселе бородач и швырнул прямо в жадный клюв пикирующей чайки кусок хлеба.
Николаюк встрепенулся.
— Когда фашисты расстреливали немощных стариков и малых детей, то были жертвы. Но когда семнадцатилетние ребята сознательно шли на риск ради общего дела — это была борьба.
— Какая там борьба? — не унимался бородач, продолжая ковыряться в буханке. — Вот если бы они взорвали мост, тогда другое дело.
Горькая усмешка появилась на добродушном лице Николаюка.
— Взорвали. Да вы понимаете, что говорите? К мосту армейские разведчики и саперы не могли подобраться, а вы хотите, чтобы семеро изможденных мальчишек и девчонок сделали это. Мост ведь охраняли днем и ночью эсэсовцы с овчарками.
Между приятелями продолжался какой-то давний спор, но мне покуда суть его не была ясна.
Видя мой заинтересованный взгляд, Николаюк спросил:
— Слыхали о Никопольском плацдарме?
— Так, в общем, — ответил я, — в подробности не вникал.
Тут снова вмешался скульптор.
— Можно подумать, что здесь решалась судьба войны!
— Да, решалась, — с упорством ответил мой знакомый. — Вспомните, когда наши войска освободили Запорожье и Мелитополь? В октябре сорок третьего, А Каменку и Никополь? В феврале сорок четвертого. Почему? Был строжайший приказ Гитлера удержать Никопольский плацдарм любой ценой, не пропускать наши войска на правый берег, где марганцевая и железная руда, которая на крупповских заводах превращалась в орудия и танки.
— А при чем тут мост? — вздохнул бородач, отряхивая ладони от крошек.
Николаюк пристально посмотрел на него: не понимает или притворяется.
— По мосту немец пустил бы подкрепление. Тогда нам совсем пришлось бы худо. На забудьте, фашисты еще сидели в Крыму, а наш четвертый Украинский пытался отрезать их от северных группировок. Представьте, что бы случилось, если бы немцы одновременно ударили из Крыма и от Никополя по тылам четвертого Украинского?
— Воевали здесь? — спросил я.
— Да, в разведке служил. — И, взглянув на каменский берег, покачал головой. — Что здесь тогда творилось!
Суденышко вздрогнуло всем своим нутром и замерло. Ветер утих. Наступила тишина, нарушаемая лишь несмелым постукиванием мелкой волны о борт да покрикиванием чаек.
Появился исчезнувший на миг бородач.
— Мотор барахлит, искра в воду ушла, — сострил он, — используем паузу для загара. — И пошел на корму, на ходу стаскивая фланелевую ковбойку.
Немногочисленная команда судна исчезла в теплом зеве трюма. Пассажиры читали газеты и разговаривали. Мы с Нкколаюком устроились у борта.
В каком-нибудь километре от нас начиналась песчаная коса, которая создала у берега удобную бухту. Там были причал и пассажирская пристань. Судов не было, на помощь рассчитывать не приходилось.
— Вы извините, что так вышло, — сказал мой спутник, — кто мог знать, что станем?
Он взглянул на часы.
— Можем опоздать на торжественное собрание в Каменку. Жаль. Едва скульптора уговорил на поездку. Говорят, хороший специалист по мемориалам, но не знаю, сговорятся ли с ним в совхозе.
— Дорого берет?
— Не в этом дело. Вы же слышали, он считает погибших ребят случайными жертвами фашистского произвола. Мол, попались под горячую руку, их в назидание другим и расстреляли. В селе кое-кто тоже так считал. Даже похоронили ребят без всяких почестей на старом кладбище, Пусть они ничего не взорвали, даже не убили ни одного вражеского солдата, но урон противнику все же нанесли. Ведь в какой жуткой обстановке они жили, а не покорились. Здесь, у Днепра, немец стоял уже в августе сорок первого. Заслоны из истребительных батальонов были смяты. Часть вооруженных людей ушла в плавни партизанить, другие не успели уйти, спрятали оружие, выжидали момент, чтобы выбраться из оккупированных сел к своим. Незаметно улизнуть из села было не так-то просто. В сельуправах и комендатурах срочно составлялись списки коммунистов, комсомольцев, бойцов истребительных отрядов. Шли повальные обыски и аресты. Помню, когда мы в первых числах февраля сорок четвертого года ворвались наконец в Каменку и Водяное, бойцов, уже повидавших всякое, потрясла картина расправ. В огородах, едва присыпанные землей, чернели ямы с трупами расстрелянных. А в прибрежных песчаных барханах — кучугурах телами расстрелянных были полны противотанковые траншеи…
Брали Водяное тяжело. Наш взвод внезапным ночным ударом выбил немцев из нескольких приречных хат… От усталости бойцы валились с ног. Взводный выставил охрану, а мне велел найти кого-нибудь из хозяев. Я вышел на подворье. Под ногами чавкала раскисшая от непрерывных дождей земля. Такой ужасной распутицы ни до, ни после мне видеть не приходилось. Колеса машин и орудий, не поверите, целиком скрывались в расквашенном черноземе.