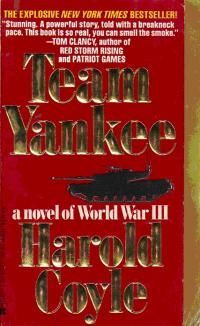Брали Водяное тяжело. Наш взвод внезапным ночным ударом выбил немцев из нескольких приречных хат… От усталости бойцы валились с ног. Взводный выставил охрану, а мне велел найти кого-нибудь из хозяев. Я вышел на подворье. Под ногами чавкала раскисшая от непрерывных дождей земля. Такой ужасной распутицы ни до, ни после мне видеть не приходилось. Колеса машин и орудий, не поверите, целиком скрывались в расквашенном черноземе.
— Хаты эти, что мы отбили, стояли на отшибе, но и сюда долетали отблески пожаров, полыхавших на центральных улицах этого большого села. Перед отступлением немцы жгли все, что не могли забрать с собой. Держа автомат на изготовку, я сделал два десятка шагов по направлению сада и стал окликать хозяев. За черными, блестящими от непрекращающейся мороси деревьями был огород. Мы знали, что люди в огородах прячутся в ямах. Долго кричал. Потом вижу, выползает из-за деревьев какое-то странное существо. В это время в центре села что-то взорвалось, видно, грузовики жгли, даже не слив из баков горючее. Стало светло, и я увидел перед собой воспаленные и встревоженные женские глаза в густой сетке морщин. Одни глаза. Все остальное закутано. Свет и на меня упал, она звездочку на каске увидела и как крикнет: «Сынку!» И обняла меня, руки трясутся, по мокрой плащ-палатке шарит, не верит, что живой свой солдат перед ней. Пока мы с ней до хаты дошли, там уже наши разведчики устроились, спят вповалку по углам. Взводный у стола сидел, голову руками обхватил. Мы вошли — он голову поднял: «Извините, мамаша, что не спросясь». Женщина молчит, тряпки на голове разматывает. Взводный спрашивает ее, не найдется ли картошечки, наши тылы из-за грязи отстали, приходилось ремень потуже затягивать.
Через полчаса она нам чугунок картошки с дымком на стол подала, и только тогда мы ее голос услышали. «Звиняйтэ, — говорит, — сынки, соли немае. Трэтий рик пид нимцэм бэз соли жывэмо». Ну мы, какая соль была, ей всю отдали. Поужинали, взводный пошел проверить посты, а я с хозяйкой продолжал сидеть за столом. Так, знаете, хорошо было с ней рядом, вроде дома, в своей станице, у матери. «Одни живете?» — спросил, а потом уж не рад был. Сперва она не пошевелилась. Потом поняла, о чем спрашиваю, и какая-то тень пробежала по ее лицу. Так горько она головой закачала и сама закачалась на лавке. А потом встала, тяжело так к стене прошла и сняла фотографию в рамке. «Ось дытынка моя», — и слезы в глазах.
Взял я рамку эту самодельную. На снимке любительском — дивчина круглолицая лет шестнадцати, блузка вышитая, бусы простенькие, в ушах дешевенькие сережки. Уголок фотографии заклеен черной траурной ленточкой. Там, в первой освобожденной нами хате, я и узнал о трагедии этих семерых ребят.
Тем временем на палубе нашего поломавшегося пароходика становилось зябко. Солнце садилось, вода за бортом темнела. Вдруг на палубе возникло оживление. Всё повернулись к правому берегу. Пересекая ширь водохранилища, к нам спешил шустрый катерок. Узнав, что поломка серьезная, с катерка крикнули: «Ждите, буксир пришлем!» Не успел катерок отчалить, как раздался крик: «Подождите! — Подождите!» От кормы вдоль борта торопливо пробирался скульптор-бородач. Он поспешно на ходу вынимал из портфеля эскизы, совал их в руки спешившему Николаюку.
— Передайте там кому следует, все равно опоздали… А на шапочный разбор я как-то не люблю…
Скульптор легко спрыгнул вниз. — Катерок умчался.
— Вот человек, — с досадой сказал мой попутчик, — с таким в разведку не пойдешь.
Я пожал плечами.
— Да, да, — стоял Николаюк на своем, — вы молоды, вы этого не знаете.
На фронте друга легче найти. Из этих семерых ребят, что погибли, ни один заднего хода не дал. С любым из них пошел бы в разведку. Мне иногда кажется, что я видел их еще живыми, а не только мертвыми в сыром песке. Мы тогда долго искали место расстрела комсомольцев. За нами матери ходили по кучугурам… Все семьи расстрелянных в чем-то схожи. Я долго думал над этим сходством и понял, в чем оно. Корни семей уходят к первым ревкомам и комбедам, к коммунам и колхозам. Отцы — коммунисты, сельсоветчики, партизаны. Не случайно эти семеро ребят попали в списки неблагонадежных при немцах. Нет, не случайно эти ребята оказались в лапах эсэсовцев. Я когда из армии уволился и в эти края вернулся, стал историю села изучать. Фашисты истребление лучших людей села вели продуманно и по плану. Даже во время облав хватали не всех подряд, а кто им нужен был. И сколько бы мне ни говорили о случайности жертв, я с этим никогда не соглашусь.
Посудите сами. Первыми фашисты расстреляли в селе четверых коммунистов, бойцов истребительного отряда. Расстреляли засветло, в центре села. Расчет простой — припугнуть, придавить людей. Затем выследили председателя колхоза. Расстреляли на октябрьские праздники — вот, дескать, вам конец красной власти.
Покончив с коммунистами и руководителями, взялись за рядовых бойцов бывшего истребительного батальона. Хоть и остались в селе старики да подростки, а все же оружие знали. Зачем немцу постоянная угроза? Арестовали всех по списку. Первым — Кириченко. Когда загрохали фашисты в ворота прикладами, он сам к ним вышел, чтобы по двору не шастали. В огороде, в яме, прятались старший сын и дочь Мария с годовалой дочкой. Ее муж, Федор Окатенко, был военным. Его фотографию вся улица видела. Утром Кириченко говорил сыну, семнадцатилетнему Коле: «Если за мной нынче придут — уходи в плавни, к партизанам. Держись Анютки Разнатовской, она выведет». Пятьдесят семь человек тогда фашисты расстреляли.
Коля Кириченко, помня слова отца, искал связи с партизанами. Но это было не просто. Фашисты устроили настоящую ловлю молодежи для отправки в Германию. Вы-то не пережили этих страхов?
— Нет, — ответил я, — ребенком был, успели эвакуироваться.
— Кто не успел — натерпелся, — продолжал мой попутчик. — Приказ гебитскомиссара требовал обязательной регистрации всех старшеклассников в течение четырех дней. Кто не явится в местное управление труда, рассматривается как саботажник. Коля Кириченко одним из первых попал в списки саботажников. Поздними вечерами парень осторожно шнырял по селу, надеясь где-нибудь увидеть Аню Разнатовскую. Эта смелая дивчина, комсомолка, тоже не явилась в управление труда. Она то исчезала на несколько дней из села, то вновь появлялась, предъявляя властям какие-то сомнительные справки о болезнях.
Однажды в сумерках Коля Кириченко, пробираясь задами к подворью Разнатовских, увидел притаившуюся в огородах девушку. Не слышно подкрался сзади и пугнул: «Руки вверх!» А девчонка как двинет локтем — и наутек. Он следом. Оказалось, что это Шура Дуля. Ее отца немцы тоже расстреляли. Шуре шел только шестнадцатый год, и Коля удивился, чего прячется, на отправку в Германию рано. «Ты думаешь, я им здесь работать буду?» — ответила Шура со злостью. Шура сказала, что к Разнатовским идти нельзя. Аня дома не живет, а мать кричит, если не перестанут к ней шляться всякие, она куда следует сообщит. Еще девушка рассказала, что днями большая отправка молодежи в Германию будет, немцы оркестр и фотографа из Каменки вызывают. Вроде все добровольно едут… Если Коля хочет посмотреть, пусть приходит на рассвете к хате кривого Оверка. С горища вся сельская площадь видна.
На рассвете в день отправки Коля с большими предосторожностями пробрался к указанной хате. Со стороны хлева к чердаку была заблаговременно приставлена шаткая лестница. Коля забрался наверх и спрятался там среди старых корзин и тряпок. Потом пришла Шура с подружкой Машей Оверко.
Народу на площади собралось много, но никто не выказывал восторга. Стояли, понуря головы, опустив к ногам котомки. На крыльцо сельуправы вышли немецкие офицеры, переводчик, староста. Офицер махнул перчаткой. «Тихо, граждане!» — крикнул переводчик, хотя и так все молчали. Вышел староста с «напутственным» словом. Что мог сказать этот бывший кулак, заклятый враг Советской власти?! «Мы двадцать лет при большевиках мучались, — фальшиво простирал холуй руки над угрюмой толпой. — Так пусть же наши дети порадуются, увидят в Германии настоящую культурную жизнь!» Потом переводчик еще спрашивал желающих выступить. Пауза затянулась. Тогда староста опять вернулся на место оратора: «Только с приходом доблестной немецкой армии наша жизнь расцветет…» Затем офицер перебил его: «Генуг!» Хватит, мол, трепаться. Подали команду строиться. Плач, крики, проклятия. Солдаты бросились в толпу отрывать детей от матерей, пошли в ход приклады. Привозной оркестр заиграл.
Вскоре площадь опустела, только легонький ветерок гонял по дороге обрывки бумаг. Ребята еще посидели на чердаке. Не часто приходилось им видеться, а невысказанного много. Долго ли хорониться загнанными зверьками по огородам да ямам? «Расцвет» жизни. Школа закрыта, восемьдесят человек расстреляно, сто пятьдесят угнано в Германию, остальные на барщине спину гнут задаром. «Уйдем из села», — решили ребята. Если Аню Разнатовскую не найдем, будем пробираться по одному. Наметили место встречи.