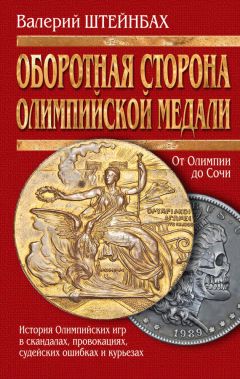У меня были чудесные, мудрые учителя. Они разрешали погрузиться в то, что мне по-настоящему интересно. Удивительный по яркости дарования учитель русской словесности Иван Иванович Зеленцов внушил мне представление о достоинствах лекционного курса обучения и о радости совместного творчества в литературном кружке. Помню лекцию Ивана Ивановича «Слово о полку Игореве». Он увлек весь класс, а потом без предупреждения предложил написать сочинение о Баяне. Это было неожиданно, мы растерялись. Потом я понял, что это была проверка нас, нашего умения размышлять. Баян был непростой фигурой — не просто придворный певец великих князей, но современник исторических событий, человек, ответственный за сохранение исторической правды. До сих пор помню, как гордился полученной пятеркой.
На дворе стояли 30-е годы, и наши учителя прекрасно понимали, в какой исторической правде мы участвуем. Школа была привилегированная, в моем классе учились дети многих наркомов и других известных людей, и чуть ли не каждый день становилось известно, что за соседней партой появился очередной сын или дочь врага народа. В нашей школе трогать этих детей было запрещено. Когда арестовали Бухарина, мы должны были собраться и всем классом его осудить. Его дочь Свету, которая училась в моем классе, на это время вызвали в учительскую — чтобы она при этом не присутствовала. Другая моя одноклассница Вика Гамарник получила грамоту уже после того, как ее отец, член ЦК, был объявлен врагом народа и застрелился, «запутавшись в антисоветских связях», а ее мать через несколько дней была арестована. Сейчас я понимаю, как много нам дали учителя. Они сформировали не только любовь к родной словесности, памятникам истории и культуры, но и уважение к ближним. Можно прочитать много книг, но не научиться самым важным вещам.
Замечателен был и кружок «Газета», где нас фактически учили читать между строк. Мастерство и преданность своему делу школьных учителей привели к тому, что уже в восьмом классе у меня возникло желание стать профессором. Думаю, что это объяснялось не мечтательной самонадеянностью, а тем, что собственно профессорская среда, хорошо знакомая с детства, воспринималась как естественная. Убежден: если основные способности, пристрастия и антипатии складываются еще в дошкольные годы и считается общепризнанным, что все мы вышли из детства, то профессиональные склонности определяются в школьном возрасте.
— Когда же сбылась ваша детская мечта?
— На сей счет есть забавная история. В 1945—1951 годах я был внештатным преподавателем-консультантом Заочной высшей партийной школы: выезды с лекциями и консультациями в другие города, семинары с московскими группами, отзывы на контрольные работы, причем все это за весь период отечественной истории — как тогда выражались, от палеолита до Главлита. Это давало опыт преподавания и существенно расширяло исторический кругозор. После первой — и удачной — командировки в Литву я возгордился своим успехом, а особенно тем, что ко мне обращались «профессор». Надо сказать, там подобным образом обращались ко всем преподавателям. Видимо, следовало сразу же сбить с меня спесь, и через несколько дней после возвращения дома раздался телефонный звонок, нарочито деланным голосом попросили к телефону «профессора Шмидта». На удивленный вопрос: «Кто его просит?» — ответом было: «Академик Шмидт». Это был полезнейший урок — слово «профессор» применительно к самому себе я стал употреблять лишь через 25 лет, когда в 1970 году мне присвоили это звание.
— Мы привыкли представлять вашего отца человеком сильным, мужественным, с неизменной улыбкой и окладистой бородой. Неужели правда, что он чуть ли не всю сознательную жизнь тяжело болел?
— Он рано заболел неизлечимой формой туберкулеза, причем это была такая форма болезни, когда обострения повторялись каждые десять лет. Когда ему было 22—23 года, его впервые положили на полгода в госпиталь, и там у него выросла борода. Так появилась фирменная борода Шмидта. Через десять лет, уже в советские годы, приступ болезни повторился. Его отправили лечиться в Альпы, и там он овладел мастерством альпиниста. В третий раз обострение болезни совпало с «Челюскиным». Он тогда острил, что попадет в учебники медицины, потому что болезнь тянется очень долго. В 40-е годы у него открылось кровохарканье. Последовало специальное распоряжение правительства для выделения дефицитного стрептомицина. С помощью этого препарата, а потом антибиотиков отцу удалось продлить жизнь, но не вылечить. Он умер от туберкулеза в 1956 году. Ему было почти 65 лет, то есть он болел более 40 лет. Пишут о Шмидте много, и все сосредотачивают внимание на героической арктической эпопее и на том значении, которое она имела для развития советской науки и всего общества. По моему мнению, главный героизм отца — его многолетняя борьба с болезнью, которая, конечно, снижала качество жизни, однако не помню, чтобы он когда-нибудь жаловался на плохое самочувствие. Самый героический период его жизни — последние 12 лет. Отец был большей частью лежачий больной, но продолжал работать, писать. Он был раздавлен и одинок, к нему даже внуков не пускали, потому что для них это могло быть опасно. Именно в эти годы, особенно после смерти Сталина, мы очень сблизились. Помню, когда в Москве проходил XX съезд, я принес ему речь Хрущева, и отец был поражен фактом насильственной смерти Орджоникидзе. Для него это было страшным открытием — ведь это произошло в момент подготовки полярной экспедиции, когда он каждый день бывал в Кремле, общался с людьми, которые, вероятно, все знали, но ничего не говорили. Даже шепотом они не делились друг с другом.
— Правда ли, что Сталин хотел вернуть вашего отца в Академию наук?
— В 1951 году умер Сергей Иванович Вавилов, тогдашний президент академии. Сталину предложили новый состав президиума Академии наук, и он, очень недовольный, спросил: «Почему нет Шмидта?» А ведь он сам вопреки уставу академии своей волей вывел его из состава президиума! Но отец был уже очень болен, а Сталину был отмерен еще меньший срок. В последний год жизни вождя заказывается картина «Заседание президиума Академии наук», на которой академик-географ Герасимов делает доклад о сталинском плане зеленых насаждений. В президиум на картине решили посадить не только действующих членов президиума, но и знаменитых ученых, которых там быть не могло: 90-летнего Зелинского, 88-летнего Обручева, основателя отечественной гельминтологии Скрябина, зоолога-паразитолога Павловского и Шмидта, который в это время был прикован к постели. Но раз Сталин так решил, надо было позировать. Отца решили сфотографировать, а потом срисовать. Я как-то пришел к нему домой и вижу, что он сидит в черном костюме со Звездой Героя и в домашних туфлях: должен был прийти фотограф, чтобы запечатлеть его для будущей картины. Забавно, что на этой картине рядом оказались академики, которые в реальной жизни друг с другом даже не здоровались. Зато художник Щербаков, который все это изобразил, успел получить Сталинскую премию.
— Как вы думаете, как бы ваш отец отнесся к сегодняшним идеям развития Арктики?
— Он бы порадовался, что исследования продолжились, хотя нынешнее глобальное потепление и подтаивание полярных шапок — это, конечно, тревожный знак, который говорит о растущем антропогенном влиянии и грозит чередой новых стихийных бедствий. Шмидт писал, что Арктика — это красавица, лежащая на ларце с драгоценностями. Для России арктический шельф — безусловно, настоящий кладезь углеводородного сырья. Отец это прекрасно понимал.
— У него ведь была другая семья?
— Официально у него была другая семья, жена Вера Федоровна, талантливый врач-психиатр, секретарь фрейдистского общества, и сын Владимир, Волк, как мы его звали, мой старший брат. При этом отношения у родителей были самые близкие. До тех пор, пока отец мог преодолевать нашу лестницу (лифт появился уже после его смерти), он часто приходил в гости, оставался ночевать. Ни я, ни мама дефицита от общения с ним не чувствовали.
— Как к этому относилась Вера Федоровна?
— С пониманием. Я не помню каких-то выяснений отношений, скандалов по этому поводу. Мне было около восьми лет, когда родители решили, что раз в неделю нам всем надо общаться. И мы стали ходить друг к другу в гости — то они к нам, то мы к ним. Ревности не было. Как-то Вера Федоровна подарила мне привезенную из-за границы чудесную машинку, уменьшенную копию настоящего автомобиля! Восторгу моему не было предела. Во время таких встреч мы любили играть в буриме. Когда папа в 1932 году был на борту парохода «Сибиряков», который впервые в истории совершил сквозное плавание по Северному морскому пути из Белого моря в Берингово, мы с Волком сочинили такое четверостишие: «Архангельск — северный порт, стоящий на Белом море. Папа, лопая торт, мечтал о морском просторе».