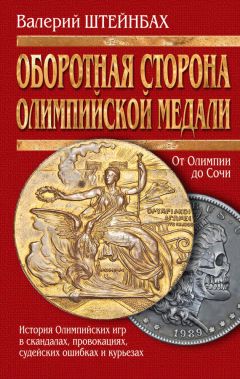— На страницах книги «Герои и злодеи российской науки» известный биолог Симон Шноль вносит вашего отца в разряд злодеев за то, что он якобы запрещал публиковать книги Александра Чижевского.
— Здесь я с Симоном Шнолем категорически не согласен. Отец очень симпатизировал идеям Чижевского о космоземных связях и никаких препятствий ему никогда не чинил. Но издать их в те годы было просто невозможно. Отец как руководящий работник Академии наук это понимал и изменить ситуацию не мог. Ему удалось пробить труды известного народовольца Николая Морозова, который провел 20 лет в Шлиссельбургской крепости и там создал массивный труд, по существу, перекроив всю мировую историю на свой лад. При этом он пользовался им самим изобретенным математическим методом и имевшимися у него на тот момент астрономическими данными, как выяснилось, довольно устаревшими. С научной точки зрения идеи Морозова весьма спорны, хотя, безусловно, это героический энтузиаст, который выжил в заточении благодаря вере в свои идеи.
— Такое случается. Скажем, в страшных гулаговских застенках Лев Гумилев создал теорию пассионарности, записывая свои мысли на обрывках газет.
— Да, и к этой теории можно относиться по-разному, но сам акт интеллектуального творчества в условиях абсолютно нечеловеческих вызывает несомненное уважение и восхищение. Отдавая дань этим чувствам, отец приложил усилия к изданию книги Морозова. Однако после ее выхода у него были неприятности: пусть автор и революционер, но из его труда следовало, что все наоборот. Новый Завет был написан до Ветхого, черное — это белое, белое — это черное, и все, что нам известно, происходило не так и не там. Ерунда, конечно, полная. Однако подобные воззрения многим казались опасными, потому что могли посягать и на такие незыблемые вещи, как история революционного движения. После этого издать еще и опального Чижевского с его идеями гелиобиологии, отличными от того, что пропагандировала марксистско-ленинская наука, было невозможно. При этом отец всегда считал, что любая научная гипотеза имеет право быть высказанной, если она не является националистической, не призывает к насилию и не вредит людям. Я с ним совершенно согласен. Когда началась дискуссия по теории Отто Юльевича, его поддерживали верхи, и он вполне мог сыграть роль Лысенко — отыграться на несогласных. А их было предостаточно. Он этого делать не стал и, наоборот, крайне уважительно повел себя в отношении оппонентов, всех выслушал и назвал имена зарубежных ученых, которых не принято было упоминать: тогда был разгар борьбы с космополитизмом.
— Почему же тогда вы так рьяно нападаете на идеи Анатолия Фоменко, изложенные в его «Новой хронологии», которые, кстати, опираются на труды Николая Морозова?
— Идеи Фоменко — страшная беда! Дело в том, что к науке они не имеют никакого отношения — ни к исторической, ни, как выясняется, к какой-либо другой. При этом у него немало сторонников, и среди них ни одного гуманитария, все — технари, люди, явно не получившие общекультурного образования. Иначе бы им не могло взбрести в голову, что, например, голую Венеру Милосскую могли изваять в оккупированной Греции, когда там были турки. Фоменко — специалист в высшей математике, в топологии, он наделен учеными степенями и высокими званиями, и читатель ему доверяет просто потому, что он академик, а академик врать не будет. В результате дело порой заходит слишком далеко. Уже есть случаи, когда не очень грамотные чиновники рекомендовали книги Фоменко для изучения на уроках истории.
— Расскажите, как вы стали студентом МГУ.
— Поступил на исторический факультет легко. Произошло это в 1939 году. Даром судьбы оказалось то, что просеминарий в нашей группе вел Михаил Николаевич Тихомиров, ставший вскоре моим главным научным руководителем. Помню, как я впервые выступил на семинарских занятиях с докладом «Идеология самодержавия в произведениях Ивана Грозного». Готовился по первоисточникам, приобретя у букиниста издание сочинений Андрея Курбского, попутно овладевая древнерусским языком и оставляя на полях первые маргиналии наукообразного стиля. Не помнится, чтобы Тихомиров консультировал и подсказывал литературу. Доклад получился самостоятельный и, главное, основанный на изучении текста источника и комментариев к нему. Это внушило первую мучительную радость творческого осмысления исторического материала и показало значимость источниковедческого подхода к теме. Думаю, ученый начинается не с первых публикаций в академических изданиях, а с этого мучительного процесса поисков нужных книг, раздумий, освоения языков — словом, того, что называется творчеством. С тех пор именно такой подход лежит в основе моей научной работы, а затем и обучения студентов. А тематика истории России времени Ивана Грозного стала надолго главной темой исследований, к которой возвращаюсь иногда и поныне.
Полезным оказался и стиль замечаний Тихомирова. Навсегда уроком остался его вопрос о фразе в тексте моего доклада о боярах, которые «руками и ногами» защищали свои богатства или привилегии: «Скажите, а как они это делали ногами?» Я понял, что даже в темпераментно написанном тексте недопустима подобная неряшливость. И что оказалось еще более важным для будущего педагога и руководителя научного подразделения — острая ироническая реплика подчас куда действеннее, чем морализующее поучение.
— Но началась война, и вам пришлось покинуть Москву...
— Да, жизнь наша круто изменилась. Мы попали в эвакуацию в Узбекистан, и в ноябре 1941 года — июле 1943 года я был студентом историко-филологического факультета Среднеазиатского университета в Ташкенте. Там учился достаточно интенсивно, даже стал сталинским стипендиатом. В Ташкент эвакуировали не только мамин, но и другие академические гуманитарные институты Москвы и Ленинграда. Именно там я избрал тему для будущего диплома — о главном советнике Ивана Грозного Алексее Адашеве. Этому выдающемуся современнику царя тогда не было еще посвящено специальных работ. Между тем он не просто был приближенным коронованной особы, но имел на него большое положительное влияние и вообще, судя по всему, был человеком высокообразованным и незаурядным. Увы, впоследствии царь избегал слушать чьих-либо мудрых советов, и Адашев был сослан в «почетную ссылку», где и умер. Такой интерес к жизни и оценке деятельности влиятельнейшего реформатора, лишенного власти, а затем посмертно оболганного самим властителем, объяснялся и аллюзиями на события сталинского тоталитаризма. Дипломную работу писал уже в Москве. А в июне 1949 года я защитил кандидатскую диссертацию «Правительственная деятельность А. Ф. Адашева и восточная политика Русского государства в середине XVI столетия».
— В Историко-архивном институте, который сейчас стал РГГУ, вы проработали более 60 лет. Никогда не хотелось уйти?
— Не хотел. Историко-архивный — веха в моей жизни. Туда я попал в феврале 1949 года и не расстаюсь с ним даже после перехода на основную работу в Академию наук зимой 1956—1957 годов. Без этого вуза не мыслю своего существования. Именно здесь я обрел и совершенствовал навыки лектора и руководителя семинаров, научных работ студентов и диссертантов. Лекционный курс отечественной истории до XIX века я очень скоро стал предварять чтением вводных лекций для первокурсников — о первичных основах и о ходе истории, об источниковедении и специальных исторических дисциплинах, об историографии. Изначально ограничивал число моих дипломников, ориентируясь прежде всего на тех, в ком видел потенциальных исследователей. Они, как и настроенные на дальнейшую самостоятельную научную работу ученики некоторых других кафедр, составили костяк начавшего работу зимой 1949—1950 учебного года студенческого научного кружка источниковедения. Именно в кружке, который просуществовал полвека, формировалась та научная школа, созданием и работой которой более всего дорожу в своей деятельности. Особенно горжусь тем, что в одной из статей обо мне написано: «Создал научно-педагогическую школу в источниковедении». Согласен с утверждением, что важно оставить после себя учеников, чтобы было у кого учиться.
— Вы ведь и сегодня преподаете, пишете книги. О чем?
— Круг моей нынешней каждодневной работы — и как исследователя, и как пропагандиста гуманитарных знаний — многообразной проблематики. В последние годы вплотную занимаюсь краеведением и москвоведением, издал уже не одну книгу на эти темы. Никогда не угасал интерес к отдельным творцам культуры — к Карамзину, Жуковскому, историкам Тихомирову и Платонову, а с конца прошлого века неизменно к Пушкину и пушкинознанию. Пушкин для меня — великая тайна. Боюсь, так и уйду в мир иной, не поняв этого феномена. Поражаюсь мудрости этого молодого человека — по сути мальчишки. Как он мог проникнуть в тайны целых исторических эпох, для него порой далеких, познать психологию людей, старше его вдвое, как будто кто-то дал ему возможность заглянуть в их души? Это потрясающе! Ощущение, что кто-то водил его пером, показывал жизнь с недоступных обычному зрению сторон... Подобным даром обладал Владимир Высоцкий. А Лермонтов даже предсказывал — почитайте его стихи. Это дар гения — слово вроде бы всем известное, однако совершенно непонятно, что это такое. Думаю, у этих людей соединился потенциал обоих полушарий — того, что несет в себе рациональное начало, и того, что ответственно за музы. Плюс хорошее образование и опять же трудолюбие, без которого меркнет любой, даже самый яркий талант.