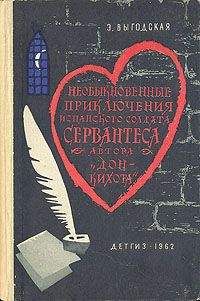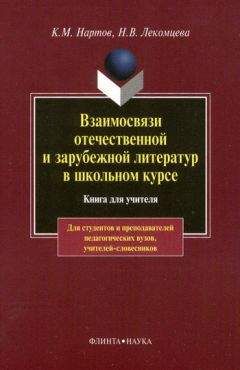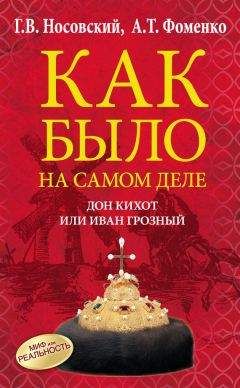Дон Кихот современен своим мятежным духом, обостренным чувством справедливости, которое побуждает героя принять на себя личную ответственность за изменение мира к лучшему, даже если, воплощая эти стремления в жизнь, он ошибается и разбивается о непреодолимые препятствия: его колотят, унижают, превращают в мишень для издевательств. Роман актуален еще и потому, что, рассказывая о подвигах Дон Кихота, Сервантес преобразовал формы повествования своего времени и заложил основу, на которой возник современный роман. Сами того не зная, романисты наших дней, играющие формой, меняющие время, сливающие и преломляющие точки зрения, экспериментирующие с языком — все должники Сервантеса.
Как роман, ознаменовавший революцию формы, «Дон Кихот» исследован вдоль и поперек, и все же, как всегда бывает с хрестоматийными шедеврами, его изучение никогда не заканчивается, ибо, как и в «Гамлете», «Божественной комедии», «Илиаде» и «Одиссее», революция форм видоизменяется с течением времени и вновь и вновь воссоздает себя в присущих каждой большой культуре эстетических идеях и ценностях, тем самым открывая вход в пещеру Али-Бабы, сокровища которой никогда не иссякнут.
Возможно, самый новаторский элемент повествовательной формы «Дон Кихота» — это выбор Сервантесом рассказчика, а это основная проблема, которая стоит перед каждым, кто собирается писать роман: кто будет рассказывать историю? Ответ Сервантеса на этот вопрос определяет и простоту и сложность романного жанра, который до сих пор сохраняет свою продуктивность; своей эпохе Сервантес дал то, что нам дают «Улисс» Джойса, «В поисках утраченного времени» Пруста или — в пространстве латиноамериканской литературы — «Сто лет одиночества» Гарсиа Маркеса и «Игра в классики» Кортасара.
Кто рассказывает историю Дон Кихота и Санчо Пансы? Их двое: таинственный Сид Ахмет Бенинхали, которого мы не читаем непосредственно, поскольку созданный им манускрипт написан по-арабски; и некий неназванный рассказчик, который временами говорит от первого лица, но чаще повествует от третьего о прочих всеведущих рассказчиках, коих он, предположительно, переводит на испанский; одновременно он же пересказывает своими словами, редактирует и временами комментирует оригинал. Эта структура — китайская шкатулка: история, явленная читателям, помещена внутрь другой истории, случившейся раньше и более обстоятельной — мы можем лишь догадываться, насколько. Наличие двух рассказчиков делает «нашу» историю неоднозначной и вносит оттенок недосказанности во все, что касается той, «другой», истории, принадлежавшей Сиду Ахмету Бенинхали, сообщая приключениям Дон Кихота и Санчо Пансы налет релятивизма, ауру субъективности, что весьма способствует независимости и самостоятельности каждой из историй, раскрывая их индивидуальный характер.
Но эти двое с их утонченной диалектикой — не единственные повествователи романа о словоохотливых говорунах или рассказчиках поневоле: как мы видим, их сменяет множество персонажей, ведущих рассказ о своих и чужих злоключениях в эпизодах, которые оказываются такими же китайскими шкатулками, только поменьше, в этой обширной, заполненной множеством отдельных вымыслов вселенной вымысла, каковой является «Дон Кихот Ламанчский».
Опираясь на известный топос рыцарского романа (а их зачастую выдавали за древние манускрипты, полученные из неких экзотических, неведомых мест), Сервантес сотворил фигуру Сида Ахмета Бенинхали, чтобы превратить двойственность и игру в основные приемы повествовательной структуры романа.
Но, кроме роли рассказчика, Сервантес вводит еще одно существенное новшество в другую, также ключевую, область романной формы — речь идет об организации времени повествования.
Времена Дон Кихота
Подобно фигуре рассказчика, время романа имеет искусственную природу, как часть авторского вымысла оно меняется в зависимости от особенностей конкретного эпизода и никогда не бывает прямым воспроизведением или отражением времени «реального».
В «Дон Кихоте» разные пласты времени так мастерски перемешаны, что рождается ощущение совершенно отдельного мира — вполне самодостаточного, что, прежде всего, и придает особую убедительность повествованию. С одной стороны, это время действия главных персонажей романа; оно охватывает примерно с полгода или чуть больше и включает три путешествия: первое длится три дня, второе занимает пару месяцев, третье продолжается около четырех месяцев. К этому надо добавить два перерыва между поездками (второй составляет около месяца), проведенные Дон Кихотом в его селении, и последние дни перед его смертью. В общей сложности — это семь-восемь месяцев.
Однако в романе встречаются отступления, которые в силу своей природы существенно расширяют временные рамки повествования, захватывая либо прошлое, либо будущее. Многие события, о которых мы узнаем по ходу рассказа, произошли до того, как он начался, нам становится известно о них со слов очевидцев или главных действующих лиц, тогда как их завершение имеет место в так называемом «настоящем» времени романа.
Но самый заметный и примечательный факт, касающийся времени повествования, это то, что многие персонажи второй части «Дон Кихота Ламанчского», как в случае с герцогом и герцогиней, прочли первую часть романа. Так мы узнаем, что за пределами повествования существует иная реальность, иное время — вымышленное, и в нем Дон Кихот и Санчо Панса существуют как герои книги, написанной для читателей, часть каковых пребывает внутри истории, а часть — вне ее, как в случае с нами, современными читателями. Эта маленькая хитрость, в которой следует видеть нечто куда более смелое, чем просто игру литературных иллюзий, ведь она имеет огромное значение для структуры романа. С одной стороны, она расширяет и удлиняет вымышленное время, которое — вновь как в китайской шкатулке — остается запертым внутри более обширного универсума, в котором Дон Кихот, Санчо Панса и прочие действующие лица живут и превращаются в героев книги, оставаясь в памяти и в сердцах читателей внутри этой «иной» реальности, не совсем той, о которой читаем мы. Но наша собственная реальность включает в себя ту, «иную», подобно тому, как внутри крупной китайской шкатулки умещается другая, поменьше, а в той еще одна, и так далее — теоретически до бесконечности.
Забавная и в то же время волнующая игра; она не только обогащает историю эпизодами вроде розыгрыша, устроенного герцогской четой (узнавшей из прочитанной книги о причудах и маниях Дон Кихота), но и наделена способностью столь же наглядно и занимательно описывать сложные отношения между жизнью и выдумкой. Тем самым она порождает фантазии, а они, в свою очередь, воплощаются в жизнь, одушевляя и меняя ее, добавляя ей красок, приключений, эмоций, юмора, страстей и сюрпризов.
То, как в книге Сервантеса решается вечная и для классической, и для современной литературы тема взаимоотношений вымысла и реальности, предвосхитило другие великие литературные странствия XX века, а желание исследовать все зачарованные приемы ее повествовательной формы: языка, времени, характеров, точек зрения и роли рассказчика — всегда будет искушать лучших романистов.
Помимо этих и множества иных причин непреходящая ценность «Дон Кихота» заключается в элегантности и мощи его стиля — испанский язык романа поднялся до недосягаемых высот. Быть может, следовало бы говорить не об одном стиле, а сразу о нескольких. Два из них, явственно разные — как и сами рассказываемые события, соответствуют двум «ликам» реальности, где протекают события: «реальному» и вымышленному. Язык вставных рассказов и новелл куда более манерен и эмоционален, нежели язык основной истории — Дон Кихот, Санчо, священник, цирюльник и прочие обитатели деревни разговаривают достаточно обыденно и просто. Во вставных историях и новеллах язык не в пример более театральный, более книжный, так как он должен создать эффект отстраненности, нереальности происходящего. Стилевые различия заметны и в речи действующих лиц, которая определяется их социальным статусом, образованием и родом занятий. Стилевое многообразие сохраняется и в языке низов: нам всегда понятно, говорит ли это простой крестьянин, изъясняющийся предельно ясно, или каторжник — недавний городской сводник, чей уголовный жаргон временами оказывается совершенно непостижим для Дон Кихота. Последний и сам выражается весьма многообразно. Как сообщает рассказчик, Дон Кихот «помешан» лишь на рыцарских историях (несет околесицу без всякого удержу), когда же речь заходит о других предметах, выражается вполне четко и связно, рассудительно и здраво. Но, пускаясь в рассуждения, превращается в утонченного эрудита, знатока книг, сыплющего литературными цитатами и увлеченно пересказывающего феерические бредни. Не менее изменчив и язык Санчо Пансы, чья речевая манера, как мы видим, меняется по мере развития сюжета и от языка остроумного, полного жизни, изобилующего поговорками и изречениями народной мудрости, переходит в конце, по возвращении героя в вотчину его господина, в стиль красочно-вычурный, то есть, по сути, становится веселой пародией на пародию, коей является сам язык Дон Кихота. За это следует воздать должное скорее самому Сервантесу, нежели Самсону Карраско по прозвищу Рыцарь Зеркал, потому что «Дон Кихот Ламанчский» — это подлинный зеркальный лабиринт, где абсолютно всё: герои, художественная форма, история, стиль — двоится и множится, преломляясь в образы, отражающие всю бесконечную сложность и многообразие человеческой жизни.