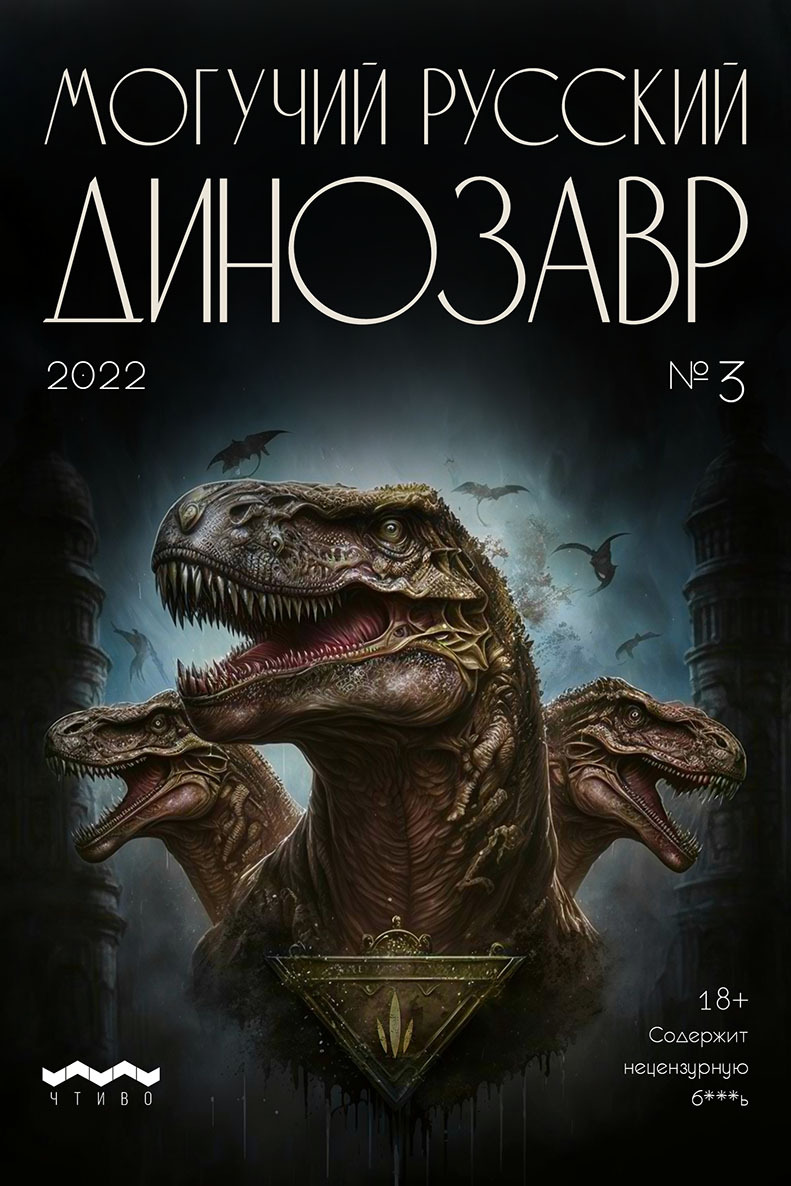в ужас и кошмар и помянуть нечто по имени Коэльо. Я не собираюсь уклоняться от подобных малоприятных сравнений, они лишь необходимое следствие моего выбора: пробудить спящие силы поэтического слова. Потому что если поэзию сегодня так легко обвинить в склонности к метафизике или в мистицизме, стоит ей попытаться заговорить об окружающем мире, то лишь по одной простой причине: между механистичным редукционизмом и тем вздором, какой несут философы нью-эйдж, больше ничего нет. Вообще ничего. Разительный интеллектуальный вакуум, выжженная земля.
Двадцатый век останется в истории еще и как парадоксальная эпоха, когда физики отвергли материализм, отказались от локального детерминизма, одним словом, отбросили целиком ту онтологию объектов и свойств, которая в то же самое время получила распространение у широкой публики и считалась главным элементом научного видения мира. В том же девятом (на редкость содержательном) номере “Мастерской романа” упоминается такая притягательная фигура, как Мишель Лакруа. Я внимательно прочел и перечел его последнюю работу “Идеология нью-эйдж”. И пришел к четкому выводу: у него нет шансов выйти победителем из затеянного им спора. Философия нью-эйдж – это ответ на невыносимые страдания, порожденные распадом общества, она изначально выступала за развитие новых способов коммуникации, предлагала эффективные пути к улучшению жизни, и Лакруа прав, утверждая, что ее потенциал неизмеримо больше, чем нам кажется. Прав он и в том, что философия нью-эйдж отнюдь не сводится к перепеву каких‐то старых врак: в самом деле, она первая додумалась поставить себе на службу последние достижения научной мысли (изучение глобальных систем, несводимых к сумме их элементов, демонстрация квантовой неразделимости). Однако, вместо того чтобы вести наступление на этом поле, где идеи нью-эйдж в конечном счете уязвимы – ведь все эти открытия в не меньшей степени совместимы как с онтологией в духе Бома, так и с откровенным позитивизмом, – Мишель Лакруа ограничивается трогательными жалобами и ребяческими заверениями в своей преданности идеям инаковости, наследию греческой и иудео-христианской культур. Не из такого теста нужны аргументы, чтобы выстоять против бульдозера холистики.
Но и сам я ничуть не лучше. Это‐то меня и удручает: в интеллектуальном плане я чувствую себя неспособным продвинуться дальше. И все‐таки интуитивно я чувствую, что поэзия еще сыграет свою роль; быть может, станет чем‐то вроде химической первоосновы. Поэзия предшествует не только роману, она – прямая предшественница философии. Если Платон оставляет поэтов за стенами своего знаменитого государства, то только потому, что уже не нуждается в них (и потому, что, сделавшись бесполезными, они не преминут стать опасными). В сущности, я пишу стихи, наверно, главным образом затем, чтобы обратить внимание на чудовищный, глобальный дефицит: его можно рассматривать как дефицит эмоций, социальных связей, религии, метафизики – любой из этих подходов будет верным. А еще, наверно, потому, что поэзия – единственный способ выразить этот дефицит в чистом виде, в зародыше, и выразить одновременно каждый из дополнительных его аспектов. И еще для того, чтобы оставить по себе следующее лаконичное послание: “В середине девяностых годов XX века некто остро ощутил, как рождается чудовищный, глобальный дефицит; он был не способен ясно и четко осмыслить этот феномен, однако, в качестве свидетельства своей некомпетентности, оставил нам несколько стихотворений”.
К вопросу о педофилии [27]
В том, как вы ставите вопросы, чувствуется тонкая подначка: вы подталкиваете к политически некорректным высказываниям – наверно, из‐за того, что делаете упор на сексуальных импульсах, которыми якобы пронизано все детство; я по этому пути не пойду. На самом деле никаких сексуальных импульсов в детстве нет, это чистейшей воды выдумка. Во всех уголовных делах, которые так охотно смакуют СМИ, ребенок – всегда жертва, целиком и полностью. Тем не менее в этом назойливом внимании к педофилии и инцесту есть что‐то успокоительное; мне кажется, что педофил – это идеальный козел отпущения для общества, которое делает все, чтобы разжечь желание, но не дает никаких средств его удовлетворить. В каком‐то смысле это нормально (вся реклама, да и экономика в целом, основаны на желании, а не на его удовлетворении), и все же, по‐моему, небесполезно напомнить очевидную истину: сейчас состояние дел в сексуальном хозяйстве таково, что мужчина зрелого возраста хочет совокупляться, но уже не имеет такой возможности; по сути, у него даже нет на это права. Стоит ли удивляться, что он хватается за единственное существо, неспособное дать ему отпор, – ребенка?
Идеальный педофил – это мужчина пятидесяти двух лет, лысый и с брюшком. Он работает в отделе сбыта прогорающей фирмы и обычно живет в пригороде, в жутком спальном районе; у него нет никакого чувства ритма. Он двадцать семь лет состоит в браке со своей сверстницей; он католик, исправно посещает церковь и пользуется уважением соседей. Его сексуальная жизнь отнюдь не бьет ключом.
На первых порах педофил открывает для себя порнографию и превращается в ее усердного потребителя; тем самым он изрядно усугубляет свои муки, одновременно снижая покупательную способность семьи. Проституция приносит ему облегчение лишь в весьма ограниченных пределах; камень преткновения для него – ослабленная, короткая эрекция: он хоть и платит деньги, но побаивается презрения проститутки. В принципе, он не зря боится женщин; зато он знает, что с ребенком ему бояться нечего. Он сам хотел бы быть ребенком.
Ребенок – существо невинное, в самом деле невинное, он живет в идеальном мире, мире, еще не знающем сексуальности (и кстати, еще не знающем денег). Ему недолго там жить (всего несколько лет), но пока он этого не ведает. Его любят родители, и он действительно достоин любви. Взрослых он считает доброжелательными и мудрыми. Он ошибается.
Встреча этих двоих, педофила и ребенка (один – самый счастливый в мире, потому что еще не познал желания; другой – самый несчастный в мире, потому что познал желание, но не может его утолить), создает условия для полноценной мелодрамы. В итоге их противостояния ребенок будет раз и навсегда испачкан грязью. У него украдут те самые несколько лет невинности, мира до секса. Педофил, со своей стороны, опустится еще на много витков вниз по спирали отвращения к самому себе. Он будет радоваться аресту и тюрьме как подтверждению своих предчувствий: да, он – самое чудовищное и самое нелепое существо в мире. Он старый, грязный, у него уродская душонка – и к тому же он даже не писатель. Он первый потребует, чтобы его кастрировали. Он наконец понял то, что знали все вокруг: когда перестаешь быть желанным, теряешь право желать. Он очень дорого заплатит за свою ошибку. Долгие годы его будут опускать,