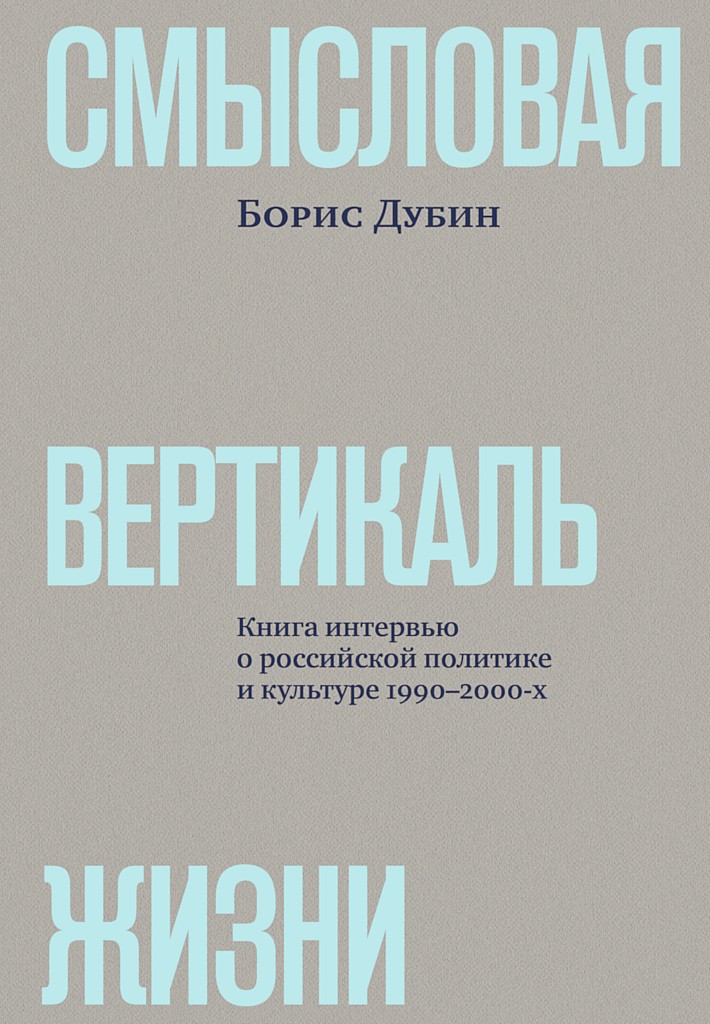1921–2000) [45]. Во втором случае массовая культура может поддерживать общество в искусственно архаизированном или инфантилизированном состоянии. «[Во многих странах] …ритуалы [модернизации в массовой культуре] создавались и воспроизводились… вместе с модернизацией или ей вослед, но не вместо нее. И не средствами государственной политики. <…> Не в ситуации, искусственно доведенной до безальтернативности…» [46]
Главная методологическая новация Дубина, сохраняющая свою продуктивность до сих пор — это открытие смысловой связи между этическим содержанием социологии, анализом модернистского субъекта и идеей современности как особой динамической смысловой системы. Переживание этой связи Дубин ни разу не декларировал открыто, но оно стояло и за его социологическими, и за историко-культурными исследованиями.
Современность для Дубина была прежде всего пространством выбора, который он понимал не по-экзистенциалистски, а в соответствии со следующим этапом развития философии после экзистенциализма — как акт, опосредованный языком и вообще знаковыми системами и ведущий к усложнению — или к редукции субъекта, «закрыванию» его/ее от самого/самой себя.
[Б]ез ценностно-направленного, выделенного отношения к современности нет и истории как открытой структуры, результата выбора со стороны индивидов и групп, поля их самостоятельных действий, инстанции личной и взаимной ответственности. <…> …Отстраняясь от современности, наблюдатель устраняет точку (место), где находится и откуда говорит. Понятно, за счет этого он получает привилегированное положение вненаходимости. Его нигде нет, и он ни за что не отвечает — наследник всего, но безответственный, не отвечающий ни перед кем. Он обеспечил себе полное алиби. Поэтому у него и нет вопросов: все вопросы, которые есть, не его, а чужие, для него они — разве что ответы [47].
По сути, Дубин реализовал в собственной работе концепцию радикальной, или рефлексивной, социологии, предложенную Алвином Гоулднером в 1970 году [48]. Гоулднер полагал, что в разных странах мира статус социологии и социолога оказался в начале 1960-х поставлен под сомнение, потому что в это десятилетие постепенно перестали работать — как сказали бы сегодня — «большие нарративы», описывавшие общество, прежде всего марксизм и структурный функционализм Талкотта Парсонса. Далее, Гоулднер полагал, что в конце 1960-х даже в «свободном» мире у правительств возникало все больше соблазнов использовать социологию как инструмент управления, а изменения в обществе «преобразуют домашнюю территорию самого социолога, его базу — университет. „Коррупция“ сегодня — это не что-то такое, что якобы происходит „вне“ стен университета, в окружающем, внешнем мире или о чем [социологу] можно прочитать только в газетах…» [49] Современному читателю достаточно было бы добавить здесь к слову «университет» — «центры социологических исследований, получающие нужные начальству данные», и получилась бы картина, релевантная не для США рубежа 1960–1970-х, а для гораздо более близких к нам обстоятельств.
Путь к возрождению общественной роли социологии Гоулднер видел в переосмыслении этического потенциала этой науки, заложенного, по его мнению, еще в XIX веке, в период сложения позитивистской парадигмы, но тогда же и «вытесненного» из сферы обсуждения [50]. В финале своей книги американский социолог предлагает программу «радикальной», или «рефлексивной», социологии [51]:
Корни социологии уходят в природу социолога как человека во всей его целостности, и поэтому вопрос, который должен стоять перед ним, это не просто вопрос, как работать, но вопрос, как жить.
<…>
Развитие рефлексивной социологии в целом требует, чтобы социологи прекратили действовать так, как будто бы они считают субъект и объект, социологов, которые изучают, и «профанов», которых изучают, двумя разными породами людей. Существует только одна порода людей [52].
Дубин во многом реализовал эту программу, но не потому, что читал Гоулднера, а потому, что сам сделал подобное открытие — скорее всего, почти одновременно с американским коллегой (может быть, чуть позже) и независимо от него. И реализовал потому, что был не только социологом, но еще и переводчиком, исследователем европейских литератур, культуртрегером и поэтом. Поэт — так, как понимал его Дубин — это человек, который признает возможность изменения собственного сознания в ходе писания стихов. А еще Дубина интересовали такие философы и писатели, которые показывали, как человек может преобразить свое сознание. Перенесение этого опыта в социологию и формировало — в случае Дубина — и ощущение неотделимости исследователя от своего «предмета», и этическое измерение в понимании общества.
«…Неустанная просветительская работа находилась в поразительном диссонансе с безнадежностью дубинского взгляда на Россию как на страну несостоявшейся модернизации», — заметил С. Л. Козлов [53]. Эта безнадежность, однако, не была статичным разочарованием. Дубин не считал российское общество неисправимым или неизменным, но признавал, что возвращение сложности модернистской и «нерыночной» постмодернистской культуры в современной России требует духовного усилия, сродни тому, что в евангельской притче описано метафорой тесных врат, которыми стремятся войти немногие. Но такие немногие все же из года в год появлялись, и для них Дубин неизменно находил слова поддержки.
Недаром его так интересовало наследие Х. Р. Яусса (он не уставал сожалеть о том, что в России Яусс не прочитан [54]) и в целом рецептивная эстетика: ему было важно, как воспринимаются литературные тексты, в чем и почему они могут расширить и преобразить жизненный мир читателя.
2
Исторический генезис позиции Дубина требует прояснения. В СССР кризис публичного статуса социологии, описанный Гоулднером, прошел в максимально болезненной форме. Проще говоря, социология в Советском Союзе в конце 1960-х — начале 1970-х была фактически разгромлена. Началось все с публичного шельмования Юрия Левады, впоследствии — важнейшего собеседника Б. Дубина и Л. Гудкова. Книга Левады «Лекции по социологии» была официально осуждена партийными инстанциями, а сам Левада переведен на работу в Центральный экономико-математический институт (ЦЭМИ). В 1972 году партийные чиновники уничтожили ИКСИ в его прежнем виде: после того как прежний директор подал прошение об увольнении, на его место был поставлен новый, стремившийся ликвидировать даже намеки на интеллектуальную автономию. Из института были вынуждены уйти Игорь Кон, Борис Грушин, Александр Галкин и другие известные ученые [55].
Социологи поколения Дубина, следующего за поколением Кона и Левады, формировались в 1970-е годы и должны были решать для себя тяжелейшую задачу: какова может быть миссия социолога в обществе, которому эта наука, по-видимому, не нужна? Замечу, что, несмотря на смены политических режимов (с конца 1980-х их было уже несколько), и в современном российском обществе вновь приходится решать сходную задачу [56].
Прежде чем описать, как ее решил Дубин, я позволю себе напомнить о статье, которая стала одной из первых и одновременно одной из наиболее радикальных реакций на разгром ИКСИ — «Постсоциологическое общество» [57]. Ее написал в 1977 году Давид Зильберман,