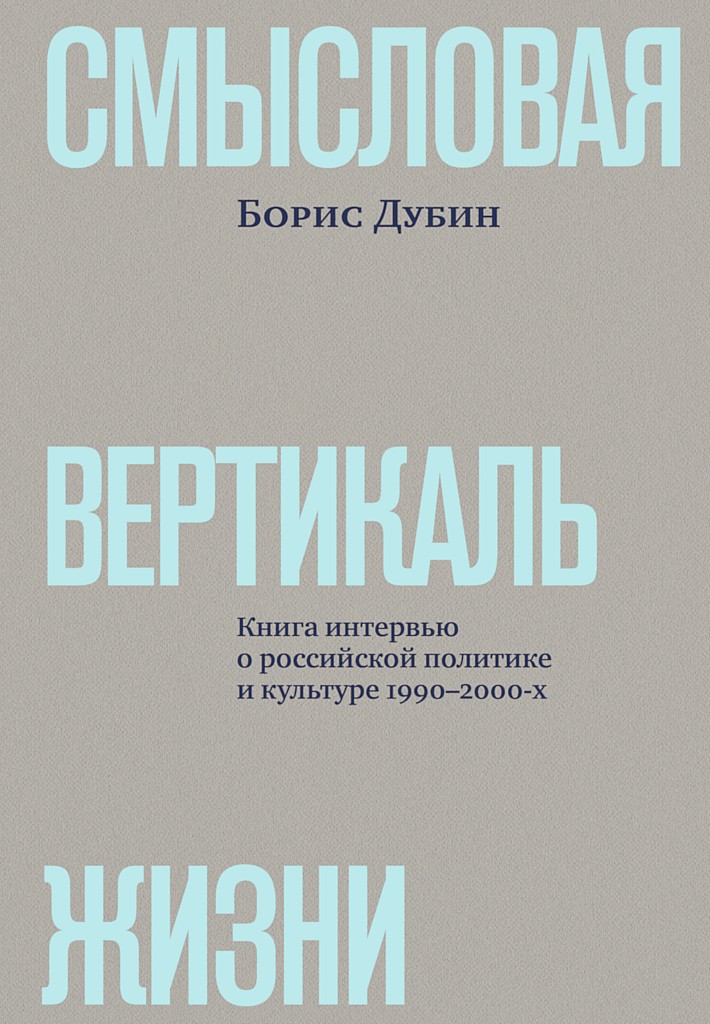который учился в аспирантуре этого института, но после событий 1972-го не смог защитить уже готовую кандидатскую диссертацию (объемом 990 машинописных страниц), вернулся из Москвы в родную Одессу, подвергся там давлению КГБ и в итоге эмигрировал в США [58].
Между работами Гоулднера и Зильбермана есть много неожиданных параллелей, но существенна разница в общем тоне: Гоулднер написал свою книгу до разгрома ИКСИ, поэтому его взгляд на будущее советской социологии сдержанно оптимистичен, а Зильберман — после, и был настроен беспросветно мрачно. На протяжении всего текста голос Зильбермана академически тверд, но в финале — кажется, срывается от горечи:
Оказалось невозможным вовсе отвратить социологов [от исследований советского общества], но отменить социологию получилось легко. Небольшая группа исследователей общества ныне (в 1977 году. — И. К.) покидает страну, большинство предпочитает остаться. Но между ними нет разногласия по главному вопросу: наступает тысячелетнее царство «люмпен-коммунизма» [59].
Зильберман предлагал реагировать на возникновение «постсоциологического общества» переходом на позицию радикального эссенциализма в духе Освальда Шпенглера: советское общество таково, потому что это задано его цивилизационной основой, восходящей к Византии [60]. Не нужно к нему применять «западные» критерии прав человека и автономии личности, как это делают диссиденты: все эти концепты глубоко чужды «новой исторической общности». В этих условиях взгляд социолога как представителя «западной» по своему происхождению науки может быть только внешним: этнограф изучает экзотический социум, чуждый европейской цивилизации.
Судя по статьям и публичным выступлениям Дубина, он тоже на протяжении многих лет чувствовал себя живущим в «постсоциологическом обществе». Стоически безнадежный тон многих статей и публичных выступлений Дубина неожиданно сближает его с Зильберманом, при всем различии во взглядах. Ср., например, в одной из последних его статей: «…коллективное сознание в России сегодня работает как достаточно простое, даже упрощенное, но как раз потому и эффективное в настоящем и в ближайшей перспективе смысловое устройство» [61].
Однако вопрос о миссии социологии Дубин все же решал для себя совершенно иначе [62]. Он считал, что Россия не должна описываться никакими отдельными «цивилизационными матрицами». Социологии же в обществе, где социологов никто не слушает, Дубин придавал значение общественной совести: если субъект не хочет слушать свою совесть, ее голос все равно продолжает звучать, подобно тому, как невидимые глаза неотвязно смотрят на Каина, где бы тот ни находился, в стихотворении Виктора Гюго [63]. Задача совести человека — сравнивать реальный поступок с тем, как человек мог бы повести себя лучше. Задача социологии, как ее можно понять из статей Дубина — сравнивать наличное состояние общества с таким, к какому общество могло бы прийти, если бы реализовало неиспользованные силы и возможности. Это взгляд, идущий изнутри общества, а не извне его.
Для Дубина социология была не только коллективной совестью, но и родом публичной педагогики и реализации общественного долга. На протяжении нескольких десятилетий (с конца 1980-х до 2010-х) Дубин не уставал показывать, как можно исследовать поведение разных групп, их тягу к усложнению жизни — или, напротив, к ее редукции и «понижающей адаптации» — на фоне того разнообразия языков, самосознаний, типов коммуникации, который представляет современная международная культура — в которую он включал западно- и восточноевропейские, латино- и североамериканские культуры, культуры этнических и религиозных меньшинств. Свою работу историка культуры и переводчика он тоже, как заметил М. Б. Ямпольский, строил, имея в виду горизонт этой сложности [64].
Дубин, как, возможно, и его единомышленники, прошел в 1970–1980-е годы между Сциллой и Харибдой. Сциллой был отчаянный эссенциализм Зильбермана, который — конечно, в куда менее рефлексивной и более агрессивной, чем у Зильбермана, форме — в перспективе привел к неосоветским построениям позднего Александра Зиновьева. Харибдой — откровенный морализм, свойственный некоторым (впрочем, далеко не всем) советским диссидентам, а в других странах — например, Пьеру Бурдье, который твердо и аргументированно выносил моральные оценки самым разным явлениям общественной жизни [65]. Дубин настаивал на том, что ряд социальных практик современной России часто являются результатом коллективного отказа от выбора и от другой жизни, но при этом следовал известному совету Ольги Фрейденберг: «Никогда не осуждайте людей, а особенно советских» [66].
Дубин был радикальным мыслителем, готовым продолжать и продумывать до конца идеи авторов, с которыми он вступал в диалог. Одним из его постоянных собеседников, помимо уже названных авторов, был Мишель де Серто. Дубин несколько раз писал предисловия к выполненным им переводам отдельных глав книги де Серто «История как письмо». Последнее из этих предисловий он закончил мыслью о том, что историописание, как мы его знаем — и как его описал де Серто, — сегодня подходит к концу. Дубин описывал это завершение подобно тому, как прощался с просветительской концепцией человека Мишель Фуко в финале книги «Слова и вещи»:
…романтикам и Гегелю принадлежит немалая роль в разработке понятия истории, превращении его в центральную категорию философии и гуманитарных наук, самосознания интеллектуалов модерной эпохи, приложении этой категории как главного измерения ко всему социальному миру и гуманитарному космосу. Пределы так понимаемой истории — это пределы буржуазной эпохи, пределы модерна. На его «верхней» хронологической границе (В 1975 году. — И. К.) в свет и выходит magnum opus Мишеля де Серто… [67]
Дубин жил после этой границы и понимал это. Его всегда интересовали вопросы предельные — как в историческом смысле («что будет теперь, после того, что мы пережили?»), так и в гносеологическом («что следует из того, что мы поняли? что мы теперь скрываем от самих себя?»).
Все это, вместе взятое, делает Дубина фигурой не только российского, но и международного масштаба — и не только по объему сделанного им (об этом уже сказано немало), но и по методологическому значению его работы в области социологии и истории культуры.
Он был человеком, воплощавшим идею культуры как общественного дела, имеющего общий смысл, жившим этой идеей, в каждом разговоре дававшим урок такого понимания культуры. Таких людей везде и всегда мало. После его ухода осталось не только чувство горечи, но и радостное удивление: оказывается, можно жить так, как жил Дубин. Очень трудно, но можно.
Теперь заданные им вопросы предстоит продумывать нам — сверяясь с его работами, споря с ними и, к счастью, никогда не находя готовых ответов.
Александр Дмитриев
Борис Дубин: культура как вызов
Впервые опубликовано: Троицкий вариант. Наука. 2017. 11 апреля. № 226. С. 14 ( http://trv-science.ru/2017/04/11/boris-dubin-kultura-kak-vyzov/).
Значение Бориса Дубина для отечественной научной среды обусловлено его уникальным двойным статусом — видного