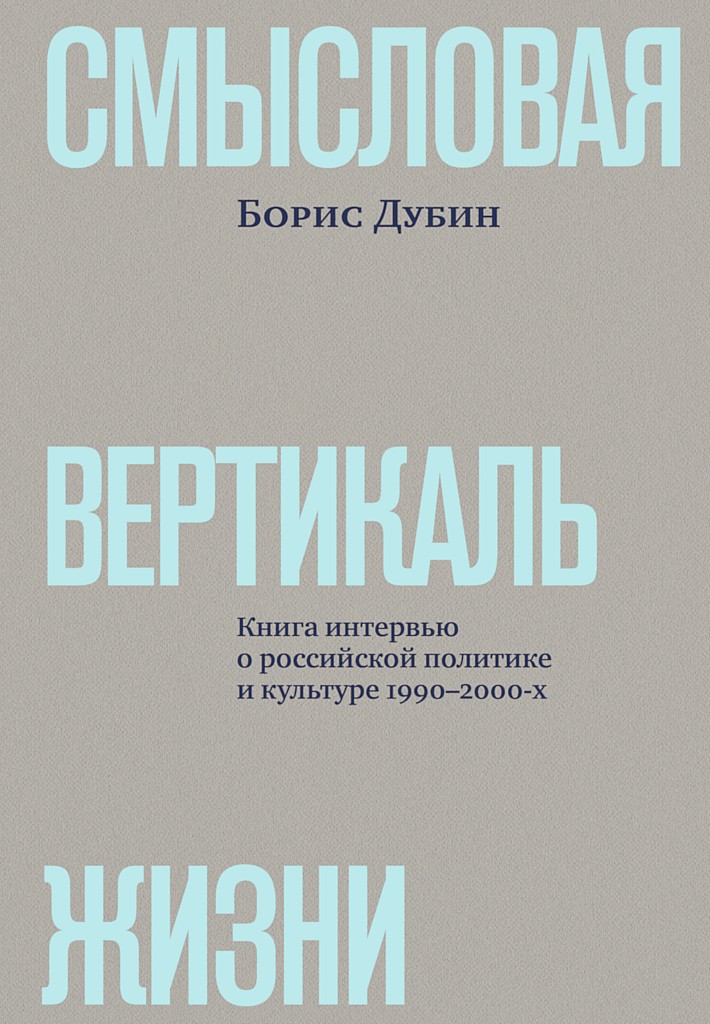исследовательских программ в области социологии литературы [87]. Это связано с тем, что можно назвать антропологической перспективой, а также с той существенной ролью, которую играет здесь проблематика социологии знания. В то время как у Бурдье в центре внимания оказывается социальная игра, связанная с борьбой за власть в поле литературы и определяющаяся реализацией потенциала социальных позиций, для программы социологии литературы Гудкова и Дубина более существенна проблематика значения литературы в различных версиях культуры как антропологического проекта современных обществ. Таким образом, здесь получает свое заслуженное место тема читательского опыта, тривиальной литературы, которая у Бурдье скорее декларирована, чем разработана. Во-вторых, соотнесение позиций групп и ролей в поле литературы в работах Гудкова и Дубина осуществляется не в контексте конфликта по поводу доминирования и признания той или иной системы категорий, но с точки зрения потенциала и ограниченности ресурсов интерпретации литературы, имеющихся в распоряжении у субъекта в той или иной позиции.
Институциональная перспектива анализа литературы, постановка вопроса о смыслах и различных измерениях социальности последней указывали на основополагающее значение проблематики культуры в социологическом проекте Гудкова и Дубина. В этом смысле развитие их концепции нужно рассматривать в более широком контексте «культурного поворота», породившего cultural studies и немецкую социологию культуры, под влиянием которой десятилетием позже возникает и американская культурсоциология [88]. Однако, в отличие от известного манифеста Джеффри Александера и Филиппа Смита, который фактически сводится к утверждению о необходимости герменевтического поворота в социологии (признанию первичности культурных фактов, актуализации литературоведческих подходов и т. д.), для Гудкова и Дубина программным также было утверждение о необходимости развертывания эвристического потенциала проблематики современности. Применительно к социологии литературы следствием этого становится презумпция многообразия исследуемого объекта, интерес к возникновению и исторической динамике современных представлений о «литературе» и «культуре», стремление наметить спектр подходов, которые позволяют разворачивать взаимосвязь текстов, категорий оценивания и коммуникативных посредников, агентов и институций.
По свидетельству самого Дубина, наиболее благоприятным временем для развития этого проекта стала первая половина 1990-х годов. «К этому времени возник журнал „Новое литературное обозрение“. Я в „НЛО“ печатался с первых номеров. Там начал складываться новый круг, в котором можно было существовать. Мы с Гудковым еще не впряглись в полную силу во вциомовские социологические дела, в „фабрику“ и в собственный журнал (наш „Мониторинг“ начал выходить тогда же), в проект „Советский человек“ и не бросали идею социологии литературы. В круг „НЛО“ входили какие-то продвинутые литературоведы, поздняя тартуская и послетартуская школа. Образовалось единственное для нас общее поле, где обсуждались теория культуры и теория литературы» [89]. Кроме того, с середины 1990-х годов Гудков и Дубин начинают преподавать курс по социологии культуры — сначала в Школе современного искусства, потом в Институте европейских культур, причем в последнем случае их участие в работе Института оказало существенное влияние не только на слушателей, но и на саму идеологию этой образовательной программы [90].
Отражением этого периода развития проекта стала изданная в 2001 году книга Дубина «Слово — письмо — литература». В отличие от систематических очерков, составивших «Литературу как социальный институт», она объединила статьи, посвященные разнопорядковым сюжетам — от биографии как культурной формы до рекламы МММ. Написанные преимущественно в 1990-е годы, то есть уже в ситуации возможности публичной дискуссии, эти статьи поражали тем же, что в свое время производило впечатление на слушателей курса по социологии культуры, который Л. Д. Гудков и Б. В. Дубин читали в Институте европейских культур, — своей открытостью по отношению к культуре современности, пафосом постоянного сопряжения «дальних вех и сегодняшних неотложных дел» [91]. Актуальные сюжеты постсоветского культурного «обихода» «простраивались» здесь в перспективе осмысления модернизационных сдвигов, тематики, которую Гудков и Дубин вслед за Д. Маклелландом обозначали термином «достижительское общество» (успех, биография, социальная и культурная динамика и т. д.).
Одной из ключевых в этом сборнике становится намеченная еще в «Литературе как социальном институте» тема цивилизационных функций массовой культуры [92]. Точкой отталкивания в ее осмыслении для Дубина выступает защитная реакция интеллектуалов на экспансию масскульта. Эта реакция может проявляться как в снобистском отношении к «масскульту» и консервативном дистанцировании от массмедиа во имя «проверенной» классики (что, по сути, означало отказ от осмысления современности), так и в практике стеба, сказывающейся в том, что культурный авторитет утверждается уже посредством новых медийных возможностей через негативную идентификацию, то есть через осмеяние и снижение любых ценностных значений и символов.
В качестве альтернативы этим реакциям выдвигается идея миссии интеллектуалов, связанной с методической рационализацией различных явлений современной культуры [93]. Одной из форм такой рационализации становится изучение жанров массовой литературы, реализующее программу социологического анализа текста. Эту программу Дубин вслед за П. Н. Медведевым обозначает термином «социологическая поэтика». В статьях, посвященных эмпирическому изучению массовых жанров — романа-боевика, исторического романа, фантастики, — раскрывается антропологическое значение такого рода словесности. Эти статьи показывают, что тривиальная литература требует совершенно нетривиального и именно литературоведческого анализа. Его «социологизм» должен заключаться не просто в ссылках на те или иные внелитературные обстоятельства, но в социологической проработке литературоведческого инструментария. Дубин намечает возможности такой проработки не только на материале фантастики, находящейся на границе между жанровой и экспериментальной литературой, но и — возможно, даже в более высокой степени — в рамках анализа такого «примитивного» жанра, как роман-боевик [94].
Работы Дубина и Гудкова конца 1990-х — начала 2000-х годов отражают кристаллизацию проекта критического анализа постсоветского общества и вместе с тем демонстрируют сдвиг в сторону более традиционной социологии, связанной с осмыслением данных массовых опросов. Работа культурных институций здесь осмысляется в контексте проблематики формирования и воспроизводства идентичности постсоветского человека. В центр внимания выходят проблемы культурного самоопределения (проблематика солидарности, отношение к западной культуре и т. д.) и формирования конструкции советского прошлого, стержнем которой становится память о Второй мировой войне. Наряду с этим появляется блок статей, призванный зафиксировать результаты постсоветских трансформаций с точки зрения судьбы культурных институций.
Проект социологии литературы претерпевает здесь специфическую трансформацию. Политическая динамика, связанная с нарастающим упадком либерального проекта, свертыванием конкурентности и стагнацией механизмов отбора элит, церемониальным характером политики, совпадает здесь с динамикой развития систем коммуникации, где деградирующая система литературных институций уступает место телевидению, превращающемуся в главный интегратор российского социума [95].
Эта ситуация существенным образом сказывается на характеристике целого ряда явлений. Формы массовой культуры оцениваются чаще негативно, во-первых, как усредняющие и развлекательные, во-вторых, как транслирующие новые изоляционистские политические конструкции [96]. Показательно в этом смысле переосмысление культурного значения романа-боевика. Характеризуя этот жанр как манифестацию индивидуалистической антропологии, в статье 1996 года Дубин пишет: «Этот крайне важный для структуры личности и ее социальной