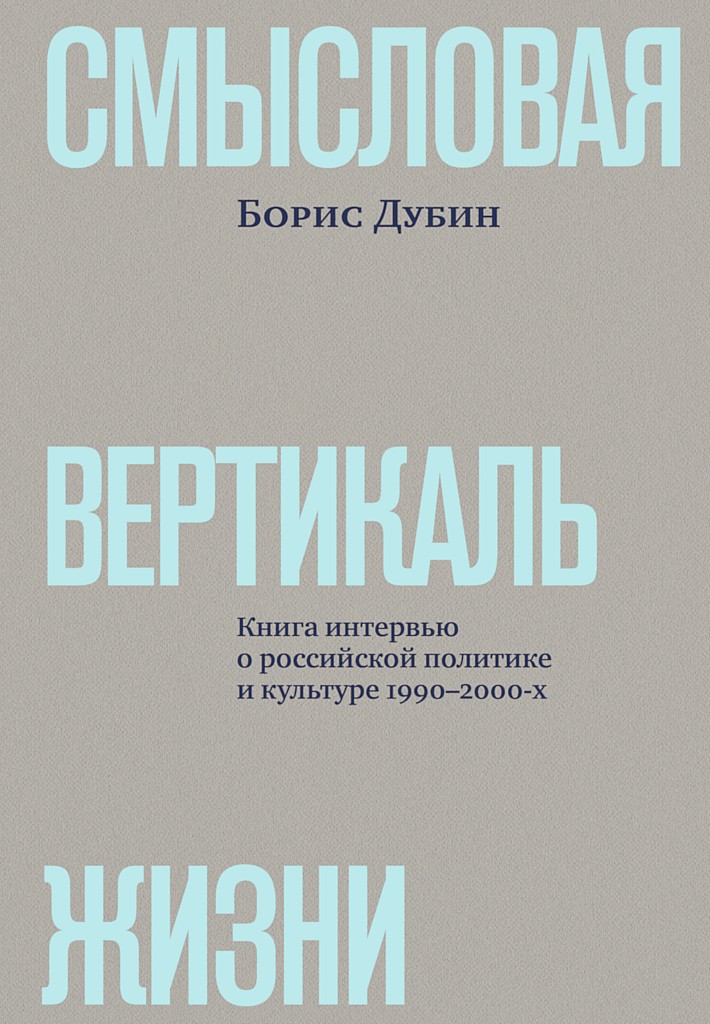и потомков, переходя границ своих культур и языков или же напротив — оставаясь, «застывая» в них? Одним из первых Дубин (совместно со Львом Гудковым) пишет на страницах «Тыняновских сборников» периода перестройки о феномене и «литературной культуры» и идеологии литературоцентричности в России.
С 1988 года Дубин стал вплотную работать в проектах ВЦИОМа под руководством Юрия Левады — это была уже полномасштабная, без оглядки на цензурные условия работа по анализу меняющегося общественного мнения. И уже с начала 1990-х общественный градус исследований коллег Дубина был критическим: несмотря на перемену лозунгов и приход новых кумиров как структуры сознания, так и ценности (уравнительство, запрос на «сильную руку», подозрение к чужакам) оставались во многом прежними. Это касалось и «простого советского человека» (название коллективной книги «левадовцев» 1993 года) и установок интеллигенции начала 1990-х и мировоззрения представителей элиты 2000-х. Во всех этих исследовательских проектах Дубин принимал самое непосредственное участие. Почти в духе «Вех» или даже Чаадаева, но с важной секулярной и социологической переориентировкой — речь шла о необходимости глубокой переработки пришлого, о пересмотре собственных представлений интеллигенции о своей роли и культурных прерогативах, об освоении, переносе в наш контекст разных западных идей и практик.
И здесь нужно сказать снова не только об аналитическом, но и специфическом переводческом таланте Бориса Дубина, который выходил за пределы только передачи текстов — речь шла и о внедрении новых смыслов, жанров, о совмещении несхожих языков, в том числе — научного и художественного. Далеко не случайным было внимание Дубина-переводчика к творчеству оригинального французского историка Мишеля де Серто (иезуита и одновременно союзника Броделя по школе «Анналов»): «Меня интересовали мысли Серто о том, что такое история сегодня, как она возможна, как можно строить исторический дискурс, историческое повествование, где границы этого, где историк становится писателем. Ведь хочет он этого или не хочет, но историк вынужден прибегать к писательским средствам, чтобы выстроить исторический рассказ. Как этому поставить предел, как контролировать эти вещи, то есть оставаться историком, даже если ты прибегаешь к нарративным формам» [73]. Работы этого плана (как и цикл очень интересных статей о Борхесе) вошли в важный сборник Дубина, который примерно на треть состоит из таких программных переводов «в пограничных жанрах» [74].
Интерес к культурной и литературной антропологии, к ситуации «человека на грани» (отнюдь не исчерпанной романтиками или экзистенциалистами) стал новым исследовательским сюжетом Дубина, который он последовательно разрабатывал с начала 2010-х годов уже вне непосредственной связи с работами «Левада-центра». Темой отдельной книги стал сюжет о классике, литературных канонах и пантеонах — и об их противоложности. Массовая литература и культура предстает у Дубина вполне разной: не только частью культуриндустрии (как у Адорно) или исследовательским вызовом для «кастовой» филологии, но порой и резервуаром обновления «стертых» художественнх форм, источником вдохновения для авангарда. Он успел издать и представить публике сборник своих стихов и переводов «Порука» («Издательство Ивана Лимбаха», 2013). Отдельного анализа заслуживают переклички идей Дубина и итальяно-американского социолога литературы Франко Моретти, которого он хорошо знал и о котором написал в «Новом литературном обозрении» в 2014 году, ставшем для него последним.
И все-таки — остается вопрос: как совмещался в герое статьи социолог-аналитик и «человек письма», последователь Левады и переводчик Борхеса? Любой из знатоков текстов Дубина, наверно, легко укажет на механизмы опосредования этих разных полюсов, крайних точек его чрезвычайно широких, как может показаться, интересов. Эти совмещения и «стыки» сами по себе всегда его занимали: символика идентичности и идеология литературной культуры, пробуксовка модернизации, мнения элит и ожидания «масс», наконец и прежде всего — культурные новации, прорывы нередко забытых, но воскрешенных в слове или музыке одиночек. Фантастика текста и общественное воображаемое. Универсальной формулы или предустановленной гармонии тут, конечно, нет — но есть и остается пример, который вдохновляет нас идти той дорогой, которая без Дубина была бы совсем иной.
Тому, кто (возможно, справедливо) жалуется на безвременье — можно напомнить о куда более душных и безвыходных эпохах и о пережитых Дубиным разочарованиях давних и недавних лет. И особенно ценна в нем неуходящая привязанность к людям и сюжетам ничейной, пограничной территории — например, восточноевропейцам или латиноамериканцам. Впрочем, и о жителях столиц и метрополисов Борис Дубин писал с неменьшей охотой и вниманием. Дело не в преимуществах отсталости и даже не в географии как таковой, а в обостренном чувстве своего места, вопреки этой ничейности и благодаря ей — с потоком истории и ему наперекор, в одиночку, посреди ближних и дальних.
Борис Степанов
Борис Дубин и российский проект социологии культуры
Впервые опубликовано: Общественные науки и современность. 2015. № 6. С. 163–173. В ходе доработки тексста для републикации в нем сделан ряд уточнений и дополнений. См. также: Степанов Б., Самутина Н. Памяти Бориса Владимировича Дубина // Социологического обозрение. 2014. Т. 13. № 3. С. 266–270 ( https://sociologica.hse.ru/data/2014/12/29/1103802043/1SocOboz_13_3_14_Samutina_Stepanov.pdf).
Отталкиваться от Элиаса, Бурдье или от кого-то еще — ход, который может оказаться вполне плодотворным. Но только если прояснены ценности этого исследователя, направлявшие его интерес, если принята в учет его проблемная ситуация, тот разрыв «естественного» понимания, который породил у него именно такие вопросы (гипотезы) и т. д. Лишь тогда исследователь вправе сказать вслед за поэтом: «Там, где они кончили, ты начинаешь».
Б. Дубин. И снова о филологии
Работы Бориса Владимировича Дубина, как и его коллег по «Левада-центру», практически не обсуждались при его жизни как целостный проект. Единственное исключение, пожалуй, — это обсуждение, инициированное редакцией журнала «Osteuropa» и продолжившееся в «Мониторинге общественного мнения», где в 2008 году были опубликованы статьи М. Габовича и Т. Ворожейкиной, посвященные критике концепций Ю. Левады, Л. Гудкова и Б. Дубина [75]. Показательно, что даже в рамках содержательного разбора этих концепций речь идет преимущественно о диагностических аспектах их воззрений, связанных с общей проблематикой модернизации и критикой (пост)советского общества, в то время как проблематика социологии литературы и социологии культуры, которой посвящены многие работы Дубина и Гудкова, остается в тени. Этот дисбаланс существенным образом сказывается на восприятии и оценке этих работ [76]. Ниже я хотел бы поразмышлять о судьбе этого проекта и роли Дубина в его реализации, смещая обсуждение их концепции в пространство культурных исследований. Реконструируя историю этого проекта, я хотел бы, с одной стороны, рассмотреть его как одну из манифестаций «культурного поворота» в гуманитарных науках. С другой стороны, эта история побуждает задуматься об особенностях его эволюции и тех внутренних напряжениях, без понимания которых невозможно его настоящее осмысление [77].
Создание проекта