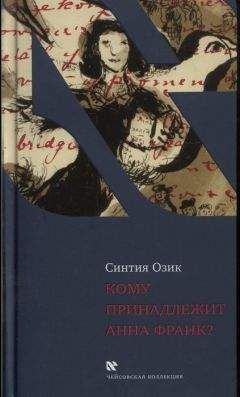Впрочем, постмодернистская идея ностальгии Фредерика Джеймсона охватывает большую территорию и ведет начало еще от революционной ностальгии Биньямина. Но вряд ли идеи культурной амнезии могут привлечь многих еврейских интеллектуалов, приверженных идеям, определенных Берманом как идеи «прогрессивной современности» [9]
4
Чем больше знакомишься с современной еврейской литературой, тем больше возникает сомнений в жестком разделении между светским и религиозным творчеством. Речь не идет о традиционном религиозном еврейском комментарии, малоизвестном, да и мало влияющем на литературный и художественный процесс. Трудно обнаружить связь между теологическими сочинениями Любавичского Рэбе М. — М. Шнеерсона или раввина Дов–Йосефа Соловейчика и творчеством р. Хаима Потока или даже р. Адина Штейнзальца.
В письме к своему другу и издателю Залману Шокену, Гершом Шолем пишет о Кафке: «Он идет по тонкой линии между религией и нигилизмом». По определению Шолема, «светское изложение каббалистического мироощущения в современном духе видится мне, как будто труды Кафки покрывает нимб святости». Наверное, сам Кафка первым поднял вопрос о соотношении и относительности святого и светского в еврейском творчестве. В известной дневниковой записи он определяет писательство, как «штурм последней земной границы», которая «может быть легко развита в новую тайную доктрину, в Каббалу» [10].
Размышляя над этим пассажем, Блум, явно под влиянием Шолема, предсказывает, что Кафка станет «строжайшим и наиболее волнующим из позднейших мудрецов создающейся культурной еврейской традиции будущего» [11]. Сведение воедино терминов поэтики и традиции («строжайший и наиболее волнующий» — «severest and most harassing» — это из стиха Уоллеса Стивенса) подчеркивает декларацию Блума:
«Я нахожу неясным и неопределенным в рассуждениях то, что один аутентичный литературный жанр считается больше священным или же более светским, чем другой».
Художественное воображение избегает или же сопротивляется резкой антитезе прямо противоположных категорий. Или, в терминах деконструктивизма Жака Деррида, — «разрушает бинарную оппозицию».
Так или иначе, но через сопротивление и беспокойную оппозицию «еврейская культурная традиция будущего» уже рождается. Даже авторы немодернистской и даже весьма традиционной ориентации не могут обойти шаатнэз - - проблемы смешения священного и светского. Джордж Стейнер настаивает, что смысл зависит от «ставки на превосходство“, которая, как он верит, составляет смысл создания и восприятия всякого художественного произведения. Стейнер провозглашает: «наши долги перед теологией и метафизикой (божественного) присутствия» и призывает нас переосмыслить происходящее, когда мы входим в неизбежно ритуальную сферу творчества. Переосмысление особенно важно для еврейских текстов. Традиционная еврейская склонность к писательству, прошедшая даже через испытание современностью, и сама ставившая испытания, напоминает нам о договорных отношениях между Богом и еврейским народом, даже если многим часто кажется, что договор отменен.
Переходя от Стейнера к терминам Синтии Озик, еврейская литература определяется, как «осязание литургии». Несмотря на огромные разногласия между ними, высказанные Озик в редкостном полемическом задоре, оба согласны, что религиозные чувства всегда присутствуют в значительных литературных произведениях. Синтия Озик идет значительно дальше, утверждая, что
«светский еврей — лишь фикция; когда еврей становится светской личностью, он уже больше не еврей. Это особенно верно для создателей литературы» [12].
Такое прямолинейное и грубоватое утверждение интересно, потому, что возвращает нас к вопросу: — как определить «еврейское» в творчестве авторов–евреев? Если оно не связано с определенной религиозной принадлежностью, скажем, если автор — атеист, скептик или агностик, признающий самоценность понятия «светский еврей», то какие аспекты еврейского творчества необходимо исследовать?
Одним из ответов, будет идея Гарольда Блума о «смысле странствий». Блум рассматривает еврейское творчество, как «синекдоху (то есть перенос значения с части на целое или наоборот) всех метаморфоз еврейского изгнания на достижение успеха». Здесь Блум делает важное обобщение:
«Странствующий народ преподает себе и другим урок смысла странствий. Странствие вынуждает к множеству изменений в способах интерпретации, имеющихся в распоряжении Запада» [13].
Такое определение больше подходит для современной еврейской литературы, чем любое традиционное религиозное определение. Странствия и изменения предполагают движение, процесс, изменение состояния. Но тогда вопрос в том, насколько далеко может еврейский автор зайти, насколько он может измениться, чтобы уход не стал слишком далеким, а изменение — слишком большим?
Разумеется, диапазон ответов на этот вопрос огромен. Один, крайний ответ, дается Жабэ, известным непомерным стремлением сочетать писательство с иудаизмом. Он, гласит: «Одно и то же ожидание, одна и та же надежда, одно и то же преодоление». Здесь современное единство, выраженное раньше в еврейском кредо «Шма Исраэль — Слушай Израиль, Господь Бог, Господь единый». Жабэ верит, по крайней мере, для себя, что процесс писательства когерентен процессу выявления своей еврейской идентификации. Поскольку Жабэ определяет современность, как открытость, то основным условием создания еврейской книги является открытая индивидуализированная самоидентификация. Жабэ отмечает, что метонимическая цепочка современность->открытость->книга->автор->еврей определяет процессы странствий и трансформации.
5
В эссе о Жабэ, Жак Деррида рассуждает о наличии негативной теологии и «атеологии». Для него, как и для Жабэ, современная еврейская литература состоит из «бесконечных сомнений и колебаний между отрицательной теологией и позитивным утверждением игры». На идеи Деррида о «смысле еврейского скитания», как и на идеи Блума, сильно влияют труды их предшественников Гершома Шолема и Вальтера Биньямина, развивающих аналогичные идеи. Биньямин в своей интерпретации Кафки рассуждает об изменяющемся и непостоянном соотношении между еврейским законом галлаха и преданием аггада, а Шолем много пишет о пропорции между благоговением к преданию и ритуалу и между самонадеянностью и бесцеремонностью каббалистических интерпретаторов в обращении с текстом и аллегориями. Впрочем, не все согласны с такой интерпретацией. Следует учесть и начавшееся в 60–70–е годы возрождение традиционной еврейской учености, например книги р. Ш. — Й. Соловейчика. Дэвид Стерн отмечает, что «разница между всеми концепциями не нова, как и многообразие еврейских интерпретаций в прошлом» [14].
Рассуждая о «смысле странствий», невозможно обойти стороной и другое фундаментальное еврейское понятие: — изгнание — галут. Принятые в разных версиях иудаизма обобщения здесь не годятся, поскольку литература, в отличие от фольклора, — - явление индивидуальное, а следовательно, эти понятия - - галут, изгнание или диаспора — каждый автор описывает в индивидуальных терминах. Нельзя не отметить и другой, неотъемлемый смысл галута, постоянно отмечающий тексты еврейской литературы. В своем великом эссе о мессианской идее Гершом Шолем описывает этот смысл:
«Значение мессианской идеи соотносится с бесконечным бессилием еврейской истории в течение всех столетий изгнания, когда она была не готова выйти на передний план мировой истории. Отсюда предварительность и временность еврейской истории, не позволявшая целостного самоощущения. Мессианская идея — это не только утешение и надежда. Каждая неистовая попытка осуществить ее приводила к абсурду и открывала бездну отчаяния. Есть нечто великое в жизни с надеждой, но одновременно и глубоко нереальное. Личная значимость индивидуальности уменьшалась, и человек никогда не мог полностью выразить себя, поскольку несовершенство его стараний никогда не могло соответствовать общепринятой высшей ценности. Так мессианская идея в иудаизме вынуждала жить в ожидании, в отсрочке, когда ничего не могло быть окончательным и определенным, ничто не могло быть бесповоротно завершено». [15].
Здесь Шолем описал условие, ставшее особенностью современных еврейских писателей. Если еврейское изгнание через мессианскую идею ведет к непреодолимому несовершенству и незавершенности в еврейской жизни, следовательно, еврейские писатели сталкиваются с постоянным разочарованием. Речь идет о «галуте текста», что Деррида назвал «необходимостью интерпретации, как изгнания». Если же Шолем прав, то изгнание должно уменьшать персональный успех, зато поощрять надежду.
Аллан Мандельбаум пишет [16]: