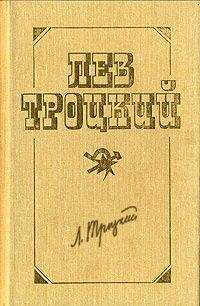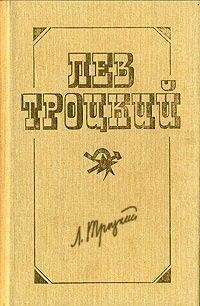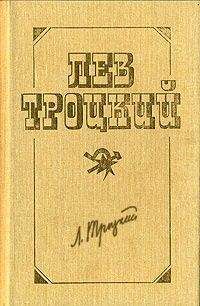Наконец, и в самом Париже выборы произошли после бегства оттуда тьеровской буржуазии, по крайней мере, наиболее активных ее элементов, и после увода оттуда тьеровских войск. Оставшаяся в Париже буржуазия, при всей своей наглости, боялась все же революционных батальонов, и выборы прошли под знаком этого страха, который был предчувствием неизбежного в дальнейшем красного террора. Утешать себя тем, что центральный комитет Национальной Гвардии, при диктатуре которого, к несчастью, весьма вялой и бесформенной, прошли выборы в Коммуну, не покушался на принцип всеобщего голосования, значит поистине тенью щетки чистить тень кареты.
Занимаясь бесплодными сопоставлениями, Каутский пользуется тем, что его читатель не знает фактов. В Петербурге мы в ноябре 1917 г. также избрали коммуну (городскую думу) на основе самого «демократического» голосования, без ограничений для буржуазии. Эти выборы, при бойкоте со стороны буржуазных партий, дали нам подавляющее большинство{6}. «Демократически» избранная дума добровольно подчинилась Петербургскому Совету, т.-е. поставила факт диктатуры пролетариата выше «принципа» всеобщего голосования, а спустя некоторое время и вовсе распустила себя собственным своим постановлением в пользу одного из отделов Петербургского Совета. Таким образом, Совет Петербурга – этот подлинный отец Советской власти – имеет на себе благодать формального «демократического» освящения, ничуть не хуже Парижской Коммуны.
"На выборах 26 марта было избрано 90 членов в Коммуну. Из них – 15 членов правительственной партии (Тьера) и 6 буржуазных радикалов, которые стояли в оппозиции к правительству, но осуждали восстание (парижских рабочих).
«Советская Республика, – поучает Каутский, – никогда не позволила бы, чтобы подобные контрреволюционные элементы были допущены хотя бы в кандидаты, не говоря уже о выборах. Коммуна же из уважения к демократии не ставила выборам своих буржуазных противников ни малейшего препятствия» (стр. 55 – 56). Мы уже видели выше, что Каутский здесь во всех смыслах попадает пальцем в небо. Во-первых, на аналогичной стадии развития русской революции происходили демократические выборы в петербургскую коммуну, при чем Советская власть не ставила буржуазным партиям никаких препятствий, и если кадеты, эсеры и меньшевики, имевшие свою прессу, которая открыто призывала к ниспровержению Советской власти, бойкотировали выборы, то только потому, что еще надеялись в то время скоро справиться с нами при помощи военной силы. Во-вторых, никакой объемлющей все классы демократии не получилось и в Парижской Коммуне. Буржуазным депутатам – консерваторам, либералам, гамбеттистам – не оказалось в ней места.
«Почти все эти личности, – говорит Лавров, – или сейчас, или очень скоро вышли из совета Коммуны; они могли бы быть представителями Парижа – свободного города под управлением буржуазии, но были совершенно неуместны в совете общины, которая волею или неволею, сознательно или бессознательно, полно или неполно, но все-таки представляла революцию пролетариата и хотя бы слабую попытку создать формы общества, соответствующие этой революции» (стр. 111 – 112). Если бы петербургская буржуазия не бойкотировала коммунальных выборов, ее представители вошли бы в Петербургскую думу. Они там оставались бы до первого эсеро-кадетского восстания, после чего – с разрешения или без разрешения Каутского – были бы, вероятно, арестованы, если бы не покинули думу заблаговременно, как это сделали в известный момент буржуазные члены Парижской Коммуны. Ход событий остался бы тем же, – лишь на поверхности его некоторые эпизоды сложились бы иначе.
Славославя демократию Коммуны и в то же время обвиняя ее в недостаточной решительности по отношению к Версалю, Каутский не понимает, что коммунальные выборы, проводившиеся при двусмысленном участии «законных» мэров и депутатов, отражали надежду на мирное соглашение с Версалем. В этом суть дела. Руководители хотели соглашения, а не борьбы. Массы еще не изжили иллюзии. Фальшивые революционные авторитеты еще не успели оскандалиться. Все вместе называлось демократией.
"Мы должны господствовать над нашими врагами нравственной силой… – проповедовал Верморель.[103] – Не следует прикасаться к свободе и к жизни личностей…" Стремясь предотвратить «междоусобную войну», Верморель призывал либеральную буржуазию, которую он раньше так беспощадно клеймил, создать «правильную власть, признанную и уважаемую всем населением Парижа». «Journal Officiel», выходивший под руководством интернационалиста Лонгэ,[104] писал: «Печальное недоразумение, которое в июньские дни (1848 г.) вооружило друг против друга два общественные класса, не может уже возобновиться… Классовый антагонизм перестал существовать…» (30 марта). И далее: «Теперь всякий раздор сгладится, потому что все солидарны, потому что никогда не было так мало социальной ненависти, социального антагонизма» (3 апреля). В заседании Коммуны 25 апреля Журд[105] мог не без основания хвалиться тем, что Коммуна «еще никогда не нарушала прав собственности». Надеялись завоевать этим буржуазное общественное мнение и найти путь к соглашению.
«Подобная проповедь, – совершенно правильно говорит Лавров, – нисколько не обезоруживала врагов пролетариата, отлично понимавших, чем грозит им его торжество, отнимала у пролетариата энергию борьбы и ослепляла его как бы нарочно в виду непримиримых врагов» (стр. 137). Но подобная расслабляющая проповедь была неразрывно связана с фикцией демократии. Форма мнимой легальности позволяла думать, что вопрос разрешится без борьбы. "Что касается массы населения, – пишет член Коммуны Артур Арну,[106] – то она с некоторым правом верила в существование, по меньшей мере, скрытого соглашения с правительством". Бессильные привлечь буржуазию, соглашатели, как всегда, вводили в заблуждение пролетариат.
Что в условиях неизбежной и уже начавшейся гражданской войны демократический парламентаризм выражал лишь соглашательскую беспомощность руководящих групп, об этом ярче всего свидетельствовала бессмысленная процедура дополнительных выборов в Коммуну, 16 апреля. В это время «было уже не до голосования, – пишет Артур Арну. – Положение стало настолько трагическим, что не было ни необходимого досуга, ни необходимого хладнокровия для того, чтобы вообще голосование могло делать свое дело… Все люди, преданные Коммуне, были на укреплениях, фортах, в передовых отрядах… Народ не придавал нисколько значения этим дополнительным выборам. Выборы были, в сущности, лишь парламентаризмом. Надо было не считать избирателей, а иметь солдат; не узнавать, потеряли ли мы или выиграли во мнении Парижа, но защищать Париж от версальцев». Из этих слов Каутский мог бы усмотреть, почему на практике не так просто сочетать классовую войну с междуклассовой демократией.
"Коммуна не есть Учредительное Собрание, – писал в своем издании Мильер,[107] одна из лучших голов Коммуны, – она – военный совет. У нее должна быть одна цель: победа; одно орудие: сила; один закон: закон общественного спасения".
«Они никогда не могли понять, – обвиняет вождей Лиссагарэ, – что Коммуна была баррикада, а не правление…»
Они начали это понимать под конец, когда было уже поздно. Каутский не понял этого до сего дня. Нет основания ожидать, чтоб он понял это когда-нибудь.
Коммуна была живым отрицанием формальной демократии, ибо в развитии своем означала диктатуру рабочего Парижа над крестьянской страной. Этот факт господствует над всеми остальными. Сколько бы политические рутинеры в среде самой Коммуны ни цеплялись за видимость демократической легальности, каждое действие Коммуны, недостаточное для победы, было достаточно для обличения ее нелегальной природы.
Коммуна, т.-е. парижская городская дума, отменяла общегосударственный закон о конскрипции. Она называла свой официальный орган «Официальным Журналом Французской Республики». Она, хотя и робко, но прикасалась к Государственному Банку. Она провозгласила отделение церкви от государства и отменила бюджет вероисповеданий. Она входила в сношения с иностранными посольствами. И т. д. и т. д. Она все это делала по праву революционной диктатуры. Но этого права не хотел признать тогда еще зеленый демократ Клемансо.
На совещании с центральным комитетом Клемансо говорил: «Восстание имело незаконный повод… Скоро комитет станет смешон, и его декреты станут презираемы. Кроме этого, Париж не имеет права восставать противу Франции и должен безусловно принять авторитет Собрания».
Задачей Коммуны было разогнать Национальное Собрание. К сожалению, ей это не удалось. Ныне Каутский ищет для ее преступного намерения смягчающих обстоятельств.
Он указывает на то, что коммунары имели своими противниками в Национальном Собрании монархистов, тогда как мы в Учредительном Собрании имели против себя… социалистов в лице эсеров и меньшевиков. Полное умственное затмение! Каутский говорит о меньшевиках и эсерах, но забывает об единственном серьезном враге – о кадетах. Именно они являлись нашей русской партией Тьера, т.-е. блоком собственников во имя собственности, и профессор Милюков изо всех сил пытался подражать маленькому великому человеку. Уже очень скоро – задолго до ноябрьского переворота – Милюков стал искать своего Галифэ[108] – поочередно в лице генерала Корнилова, Алексеева,[109] затем Каледина, Краснова и, после того, как Колчак оттеснил в угол все политические партии, разогнав Учредительное Собрание, партия кадет, единственная серьезная буржуазная партия, по существу насквозь монархическая, не только не отказала ему в поддержке, а, наоборот, окружила его еще большими симпатиями.