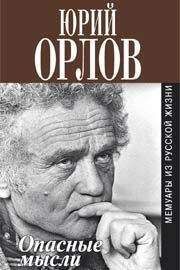Я жил в общежитии, рядом с факультетом, который располагался под Москвой. Учиться было бы невозможно, живя в московской «квартире», да еще тратя три-четыре часа в день на дорогу. Я ездил к матери раз в неделю — поболтать, купить что-нибудь, вынести помои и ночной горшок, а также помыть пол, никогда не принимавший, к сожалению, чистого вида: доски давно прогнили. Когда наступала ее очередь, я мыл за нее общий коридор, кухню и туалет, но запахи отмыть не удавалось.
Мать была безнадежно больна. Ее замучила гипертония, она испытала первый инфаркт, не могла больше работать и жила на 150-рублевую пенсию. Я добавлял ей 200 из моей 400-рублевой стипендии и треть моей хлебной карточки, но это была капля от того, что ей было нужно. Я не делал того единственного, что могло бы облегчить ее жизнь, — не бросал учебу.
Первый год я жил в одной комнате с Виктором Тростниковым, будущим математиком и религиозным философом. Он пришел из интеллигентной семьи, был остр умом и на язык, а, кроме того, красив и высокомерен, — что приносило ему великие успехи у женщин. Мы проводили многие вечера в спорах по физике и доверяли друг другу настолько, что обсуждали неформально философию и политику. Виктор был первым встреченным мной человеком, который считал, что индивидуальные права важнее прочих. Я не слышал даже о таком термине до него, и Виктор фактически не употреблял этот термин, это было мое собственное открытие. «Правильно, — подтвердил Виктор. — Я говорю именно о индивидуальных правах. Молодец».
Лекции, лаборатории, ночные дебаты почти не оставляли нам свободного времени, но в то малое время, что оставалось, мы отнюдь не скучали. Наша комната на четвертом этаже была рядом с уборной; мы вылезали из окна, проходили по узкому карнизу лицом к стене, цепляясь пальцами за кирпичи, и входили в сортир через окно же. Осваивали прыжки в воду со все более и более высоких мостов. Раз Виктор поспорил с одним студентом на сто рублей, что прыгнет с Крымского моста, метров пятнадцати или больше высотой. Студент, однако, испугался, — или пожалел сто рублей, — и предупредил милицию. Когда Витя пришел на мост, милиционер уже прохаживался вдоль парапета. «Что-нибудь произошло?» — спросил Виктор своим самым наилучшим интеллигентно-начальственным тоном. — «Да, вот, жду самоубийцу». — «О-о! Так я помогу. Вы идите к тому краю, я посторожу здесь». Сбитый с толку милиционер отошел и Виктор немедленно прыгнул. Судейская комиссия, плававшая внизу на лодке, присудила ему победу.
Через год после наших с Виктором экспедиций в сортир по карнизу меня поселили в одну комнату вместе с тремя такими же, как я, демобилизованными офицерами — Борисовым, Войцеховским (будущим академиком) и Маслянским. В этой компании мы с еще большим фанатизмом использовали каждый свободный час для занятий или физических дискуссий. Я не помню, чтобы выходил прогуляться надолго; в кино, может быть, раз или два. До девушек пока тоже очередь не доходила, да и студенток на весь огромный факультет приходилось три или четыре.
Как и другие студенты в других комнатах, мы жили коммуной. Каждым утром дежурный варил кашу на всех. Съесть ее мы часто не успевали до отхода поезда на Москву (где мы затем разъезжались по базовым исследовательским институтам), поэтому дежурный засовывал кастрюлю с кашей и ложки в рюкзак и завтрак заканчивался в поезде. Железнодорожный билет мы, естественно, брали один на всех. Если появлялись контролеры, Войцеховский, с билетом в кармане, поспешно проходил мимо них в другой вагон.
«Биле-ет!» — кричали они.
«Есть билет», — кидал он на ходу, ничего им, однако, не показывая. Предвкушая штраф, контролеры трусили за ним, и он уводил их на другой конец поезда. Затем показывал билет.
«Ты… Ты… Почему сразу не показал?»
«Я же сказал: билет есть».
Арестовали Маслянского.
Однажды утром он сказал: «Панов попросил меня съездить в военно-учетный стол в Москву. Придется, черт, пропустить занятия, к вечеру вернусь». И засунул в полевую сумку книгу Эйнштейна. Было странновато, что профессор Панов, проректор факультета, лично проинформировал студента о таком пустяке, как вызов в военно-учетный стол. Маслянский не появился ни вечером, ни в следующие дни.
Когда я вернулся в общежитие из моего очередного визита к матери, Маслянского все еще не было, а Войцеховский сообщил, что в общежитии был обыск. Еще через три недели меня вызвали на Лубянку. Собственно, я был вызван на Петровку 38, тоже известное место, а затем препровожден на Лубянку, в главное, печально знаменитое здание МГБ на площади Дзержинского. Вызвали к 10 часам, допрос начался в одиннадцать и закончился в час ночи.
Допрашивали, два капитана. — «Ваша фамилия?.. Место работы?.. Не работаете?.. Так… А чем занимаетесь? Студент?.. Так. Какого института?..»
Комедия длилась довольно долго. Наконец:
«Известен ли вам бывший студент физико-технического факультета МГУ Маслянский?» Бывший? Дело плохо, подумал я.
«В каких отношениях вы находились с бывшим студентом Маслянским? Что вы можете сказать о его моральном облике?» А что, между прочим, я мог сказать о его моральном облике, кроме того, что он имел блестящие способности к математике и занимался невероятно много. Хорошо варил кашу? Я решил описать в подробностях наш студенческий быт. Как живем коммуной. Как иногда бьемся на ремнях по-кавказски; или поймаем кого-нибудь из студентов, свяжем и забросим на шкаф. Они аккуратно записывали.
Не давайте даже нейтральных показаний! Это был мой первый опыт настоящего допроса, я еще был довольно наивен и не знал, что они способны лепить «дело» из любых, каких угодно подробностей, лишь бы были подробности, и чем больше, тем лучше. Только из ничего, из абсолютного нуля, им лепить психологически труднее.
Наконец, им надоели мои байки.
«Что подозрительного вы заметили в поведении Маслянского во время вашего совместного пребывания в общежитии?» — спросил офицер слева.
Что значит — «подозрительное»? Предполагалось, что об этом не спрашивают. Каждый советский человек знает, какое поведение подозрительно, какое нет. Мне, однако, следовало спросить разъяснений! Но была уже полночь. Черт с ними, подумал я, если бы и было что «подозрительное», я бы им не сказал.
«Ничего такого не заметил», — ответил я.
«Что подозрительного вы слышали о Маслянском от других студентов и кто эти студенты?» — спросил офицер справа.
«Ничего не слышал. Ни от кого».
«Сообщите следствию о антигосударственных высказываниях Маслянского», — сказал офицер слева.
«Ничего не было». (Что значит «антигосударственное высказывание»)
«Мы располагаем всеми необходимыми сведениями, имейте это в виду. Сообщите следствию все, что вам известно о Маслянском!» — сказал офицер справа.
Их тон становился все более угрожающим. После двух часов допроса я ощущал огромное психологическое давление. Наконец, меня осенило. Советская печать начала остервенелую травлю «космополитов», что в переводе с советского на русский означало «евреев». «Я вспомнил», — сказал я.
«Ну, вот, вот, видите…» — сказал офицер слева.
«А говорили, ничего, никого», — добродушно пожурил офицер справа.
«Да я забыл, сейчас только вспомнил. Маслянский — антисемит. Он часто ругал евреев». Это, увы, было правдой.
Они разочарованно молчали, пыхтя папиросами.
«Но вы же понимаете, что это не государственное преступление», — промолвил, наконец, офицер справа, рассеянно разглядывая мои волосы.
«Понимаю». Понимать там было нечего.
В конце концов они отпустили меня. Я подписал протокол допроса только на одной последней странице, в самом конце. (Не делайте этого! Много лет спустя Иван Емельянович Брыксин рассказывал мне, что сделал то же самое, когда его допрашивали по его собственному делу. А затем во время суда из протокола зачитывались такие утверждения, каких бы сам черт не подписал.)
Меня больше не вызывали на допросы. Маслянского больше никогда не видели. В общежитии ходили разговоры, что он слушал Би-Би-Си. В общежитии был только один радиоприемник, в комнате, где жил только один студент; и с этим студентом ничего не случилось. Поползли темные слухи и студента вскоре перевели в другой институт.
Реальность была такова, что студенты упорно занимались, устраивали семинары, ходили в общие летние походы, спорили вдохновенно и — писали друг на друга доносы. Доносы писало не менее четверти студентов моей группы. Я выяснил это только в 1956 году. Оказалось, что я был намного наивнее, чем мог себе вообразить.
На последнем курсе семерым из нашей группы дали на время двухкомнатную квартиру возле ИТЭФ — прекрасные условия для учебы. Мы жили дружной коммуной, готовили по очереди суп и кашу, обсуждали физику, организовали даже хор русской песни, в котором пели все, я дирижировал. Мы были настоящими друзьями. По меньшей мере трое из семерых писали в то время доносы. Правда, никто не предал друзей, не воспользовался никакими их случайными оговорками. Но — между прочим — возникали ли у нас случайные оговорки? Обсуждали ли мы вообще политику? О да, обсуждали, но никто не говорил ничего опасного для себя. У нас были внутренние гироскопы, которые держали наши речевые потоки в безопасных каналах. В душе, в глубокой глубине, никто не верил никому. В таких обстоятельствах между нами не было, и не могло быть, простых и чистых отношений.