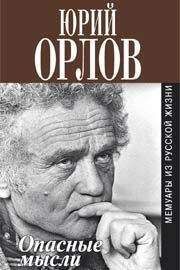Помимо меня, только Женя Кузнецов пришел в нашу студенческую группу из рабочей семьи. А может быть и на всем факультете нас таких было двое. Герш Ицкович Будкер, блестящий физик, ведший в то время у нас физические семинары под русским именем Андрей Михайлович, считал Женю самым сообразительным. Женя Кузнецов жил в одной комнате с Женей Богомоловым, происходившим из семьи провинциальных учителей. Они жили коммуной, по очереди варили кашу и ели прямо из общей кастрюли, пренебрегая таким предрассудком, как индивидуальные миски. Ели вместе, но писали друг на друга — врозь. Нетрудно усмотреть в такой ситуации внутреннее противоречие, которое, согласно марксистской философии, должно было привести к качественному скачку. И оно привело. Начальник спецотдела потребовал от Жени Богомолова вытащить из кармана Жени Кузнецова записную книжку с адресами и передать в спецотдел. Душа Жени Богомолова взбунтовалась, он признался во всем Жене Кузнецову.
«Бляди, — сказал Женя (Кузнецов). — Вот бляди. Ведь они то же самое потребовали от меня. Да ведь я знаю, у тебя нет никакой книжки».
«Нету, — пробормотал Женя (Богомолов). — А у тебя есть?»
«Книжка-то есть, да ни хрена в ней нет, пустая, — сказал Женя (Кузнецов), на всякий случай схитрив. — Отдашь им, пусть подотрутся».
«А дальше что?» — уныло спросил Женя (Богомолов), вообще всегда немного унылый.
«А дальше станем писать вместе», — сказал никогда не унывавший Женя (Кузнецов). Вместе про меня, и вместе про тебя. Будем в деталях описывать движение наших ложек из кастрюли в рот и обратно».
Каждого втягивали в эту клоаку постепенно. — «Это ведь только один раз. Вы — комсомолец. Опишите просто вашу жизнь и разговоры. Говорите лишь о физике? Замечательно, пишите о физике… Причина, по которой мы вызвали вас опять, состоит вот в чем. Был сигнал, что кто-то из студентов изготавливает порох. Что-нибудь слышали об этом?»
И каждый писал всякую чепуху, чтобы не подумали, что он что-то скрывает, и, в конце концов, подписывали обязательство наблюдать и сообщать. Почему они не отказались писать друг о друге? Потому что безумно хотели учиться и не знали, что произойдет в случае отказа. Я испытал на себе силу этого глобального шантажа.
В артиллерийском училище я был автоматически оформлен кандидатом в члены партии — как будущий офицер; во время войны это казалось мне нормальным. Но после войны мои взгляды сильно изменились, и я пытался не переходить в полные члены партии. Кочегаром на фабрике я просто утаивал, что ношу билет в кармане, но в университете это было невозможно. Отказаться от перехода в полные члены значило отказаться от продолжения учебы в университете, что тоже было невозможно. Пробыв три года в кандидатах вместо одного, я был серьезно спрошен секретарем партбюро, по какой причине тяну с этим делом. Хорошо, я стал членом партии. Но на этом не кончилось. Как старшего по возрасту и хорошо успевающего меня попросили войти в комсомольское бюро факультета. И я опять согласился.
Чем глубже я погружался в науку, тем в большее недоумение приводило меня учение советских марксистов, что все основные науки — квантовая механика, релятивистская теория, генетика, кибернетика — базируются на ложной гносеологической основе. Или марксизм был ложен и, фактически, антинаучен; или науки, которые я познавал и любил все больше, совсем не были науками. Научный статус генетики приобрел для меня особо критическую важность, так как это имело прямое отношение к советской доктрине коммунистического перевоспитания.
В 1948 году знаменитый Трофим Денисович Лысенко, с его одухотворенным лицом голодного волка (я встречал его позже в академической столовой) ликвидировал генетику окончательно и бесповоротно, переведя советскую сельскохозяйственную науку на рельсы единственно верного научного учения. Я колебался насчет его теории, по которой таких штучек, как гены, не существовало, но зато воспитанные свойства могли передаваться по наследству. Если, рассуждал я, гены все же существуют и передают все важные свойства человека из поколения в поколение тысячи лет почти без изменений, то советский лозунг «Мы создадим нового человека!» — это кошмарный бред. Но если, с другой стороны, такие свойства, как, скажем, эгоизм и любовь к собственности не суть константы, а зависят от среды и воспитания, то надо только изменить социальную систему и поднажать как следует на воспитание — и «новый человек» будет выращен. Многое говорило, казалось, в пользу и такого взгляда.
Это стало для меня вопросом вопросов.
Поэтому, через два года после лысенковского научного доказательства, что гены — это выдумка попа Менделя и американского псевдоученого Моргана, я решил своими глазами посмотреть на поразительные успехи самого Лысенко в перевоспитании растений. «Египетская пшеница, — писала советская печать, — перевоспитанная академиком Лысенко, скоро заколосится на полях советской страны. В каждом колосе чудо-злака в десять раз больше зерен, чем у обыкновенных сортов». Я сел в электричку на Павелецком вокзале и поехал на его знаменитую ферму в совхоз «Горки Ленинские».
Бродя среди жалких опытных делянок, я спрашивал себя, не в сумасшедшем ли я доме. Да, в полном колосе этой пшеницы было сто зерен. Но дело в том, что из каждых ста колосьев девяносто были пустыми! Она не желала перевоспитываться, эта пшеница!
Итак, обман, причем обман грандиозный. Теория перевоспитания летела ко всем чертям. Я видел это, правда, только на пшенице; но что, если и человеческий вид тоже не поддастся воспитанию? Если из каждых ста девяносто будут все равно любить себя и своих детей больше, чем целое общество? Что делать? Рубить головы? Получим безголовое общество, в котором безголовые будут любить себя, вероятно, еще больше.
Решив поразмышлять над предметом без шуток, я поехал по железной дороге дальше, в известные леса на станцию «Белые Столбы». Но мне не удалось прогуляться по лесу. Там была колючая проволока — лагерь. Еще колючая проволока — еще лагерь. И еще колючая проволока. Я поворотил назад.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
МЕНЬШЕВИСТСКИЕ ПЕСНИ
За год до окончания университета я женился на очень серьезной девушке с большими прекрасными черными глазами. Ее звали Галина Папкевич, она была наполовину полька. Как следствие, летом 1951 я переехал вместе со своим чемоданом из студенческого общежития в комнату в центре Москвы, где Галя жила со своей теткой. В честь события товарищи-студенты преподнесли мне костюм — брюки и первый в моей жизни пиджак. К концу 1952 появился прелестный мальчик, которого мы назвали Дмитрием. Галя работала техником на том самом авиационном заводе, где когда-то работал мой отец; я занимался исследованиями под руководством Владимира Борисовича Берестецкого. Мы помогали моей матери, поэтому с деньгами было туго и ради пеленок пришлось продать всю Галину библиотеку. Но мы были счастливы. Ночами, покачивая детскую коляску левой рукой, я рассчитывал переходы ортопозитрония в парапозитроний правой. Однажды, когда я что-то вычислял, Дима начал пищать, просясь на руки; а у меня потерялась двойка, цифра два, и никак не находилась, а он еще пищал! Я схватил его, поднял над головой, затряс, «Да замолчишь ли ты, наконец, младенец? Засыпай!» — а он — он засмеялся ангельским смехом. Мне стало стыдно, я прижал его к себе и стал целовать. Что же еще нужно для счастья?
Отсутствие вины.
В то лето, когда мы женились, физико-технический факультет преобразовали в отдельный институт и меня, как многих из нашей группы, перевели на физфак университета. Однако студенты-евреи туда не перешли: под прикрытием этой реорганизации их рассовали по провинциальным и второстепенным институтам, лишив допусков к «секретным» работам. Это означало в будущем невозможность работать в серьезных научных лабораториях. Они были мои друзья, и я чувствовал виноватость перед ними, но мы настолько не доверяли друг другу, что не способны были даже пытаться обсуждать ситуацию. Мне надо было защищать диплом, и работать в науке, и быть со своей женой. Поэтому я молчал — как и все остальные.
Затем, в ту зиму, когда я уже защитил диплом, и родился Дима, чекисты раскрыли заговор «врачей-отравителей» и сунули их в тюрьму. Эти врачи, если даже и не пили кровь наших младенцев, то уж точно отравляли кровь наших вождей. Простые и не шибко простые советские люди и сами находили теперь тут и там отравителей наших детей и нашего сознания! Женщины бились в истериках в приемных врачей-евреев. Евреев поносили в открытую. С моими рыжими кудрявыми волосами меня задевали на улицах и, сплевывая, цедили: «Еврей!» Я отказывался отвечать «Нет». Но я не говорил и ничего другого. Казалось, все было бессмысленно. Люди выказывали такой уровень тупости и злобы, что даже мои старые мечты о новой революции теряли точку опоры. Я чувствовал личную вину; мне было стыдно глядеть в глаза стоически веселой еврейки, жены Галиного дяди Тадеуша.