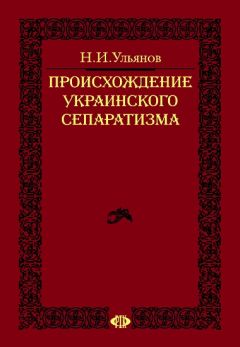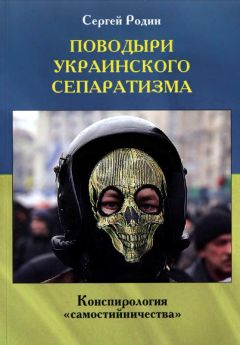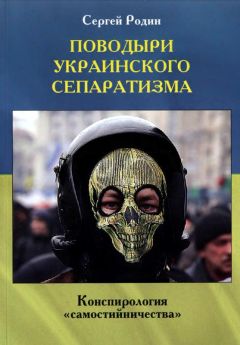Заслуживает внимания одна нота, звучащая в «прелестных листах» и в речах: обвинение москвичей в отступлении от православного благочестия. Сначала это выражалось в сдержанной форме: Москве приписывалось намерение изменить малороссийские религиозные обряды, ввести погружение младенцев в воду при крещении вместо обливания. Не успели это высказать, как пошел слух, будто украинские попы, непривычные к такому способу крещения, потопили множество младенцев. Во время конфликта царя с патриархом Никоном гетман Брюховецкий писал в своем универсале: «…святейший отец наставлял их (москвичей), чтобы не присовокуплялись к латинской ереси, но|82: теперь они приняли Унию и ересь латинскую; ксендзам служить в церквах позволили. Москва уже не русским, но латинским письмом писать начала…» [70]* Легенда об отступничестве получила столь широкое распространение, что ее счел нужным повторить в своих воззваниях к малороссийскому народу Карл XII. Он тоже уверял, будто Петр давно задумал искоренить в своем государстве греческую веру, по каковому случаю вел переговоры с Папой Римским. Инспирированы были эти курьезные манифесты Мазепой, открывшим Карлу главную причину единения малорусов с великорусами — православную веру. Идея представлять москалей неправославными принадлежит не Мазепе и не казакам; она родилась в Польше. На Гадячской раде 6 сентября 1658 г. польский посол Беневский говорил казакам: «Что приманило народ русский под ярмо московское?.. Вера? Неправда: у вас вера греческая, а у москалей вера московская! Правду сказать, москали так верят, как царь им прикажет! Четырех патриархов святые отцы установили, а царь сделал пятого и сам над ним старшинствует; чего соборы вселенские не смели сделать, то сделал царь!» [71]*
Нам уже приходилось говорить, что Польша издавна была фабрикой памфлетов, книг, речей, направленных против России.
В XVI столетии это были богословско-полемические сочинения, по преимуществу. После Ливонской войны и Смуты к ним начали примешиваться политические памфлеты, полные хвастовства о том, как «мы их часто одолевали, побивали и лучшую часть их земли покорили своей власти». Литература эта вызвала в XVII веке дипломатические конфликты и требования со стороны Москвы уничтожения «безчестных» книг и наказания их авторов и издателей.
Но с особенной энергией заработала польская агитация после присоединения Малороссии к Московскому государству. Боярин А. С. Матвеев, управлявший одно время Малороссийским приказом, писал впоследствии, как он затребовал к себе в Москву образцы этой агитации.
«…И из черкасских городов привезли многие прописные листы, которые объявились противны Андрусовским договорам и|83: Московскому постановлению, и книгу пашквиль, речением славенским: подсмеяние или укоризна, печатную, которая печатана в Польше. В той книге положен совет лукавствия их: время доходит поступать с Москвою таким образом: и время ковать цепь и Троянского коня, а прочее явственнее в той книге» [72]*.
Весь фонд анекдотов, сарказмов, шуточек, легенд, антимосковских выдумок, которыми самостийничество пользуется по сей день,— создан поляками. Знаменитая «История русов» представляет богатейшее собрание этого агитационного материала, наводнившего Украину после ее присоединения к России. Часто речи, вложенные авторами этого произведения в уста казачьим деятелям и татарам, не требуют даже анализа для выявления своего польского происхождения. Такова, например, речь крымского хана о России: «В ней все чины и народ почти безграмотны и множеством разноверств и странных мольбищ сходствуют с язычеством, а свирепостью превосходят диких… между собою они беспрестанно дерутся и тиранствуют, находя в книгах своих и крестах что-то неладное и не по нраву каждого» {53}. Казачьему предводителю Богуну приписаны тоже слова, выражающие распространенный польский взгляд на Россию: «в народе московском владычествует самое неключимое рабство и невольничество в высочайшей степени, и что у них, кроме Божьего да царского, ничего собственного нет и быть не может, и человеки, по их мыслям, произведены в свет будто для того, чтобы в нем не иметь ничего, а только рабствовать. Самые вельможи и бояре московские титулуются обыкновенно рабами царскими, и в просьбах своих всегда пишут они, что бьют ему челом; касательно же посполитова народа, то все они почитаются крепостными» [73]*.
Когда Выговский изменил царю и собрал раду в Гадяче, туда приехал польский посланный Беневский. Речь его к казакам — великолепный образец красноречия, рассчитанного на слушателей, знающих, что каждое слово оратора — ложь, но принимающих ее, как откровение.
«Все доходы с Украины царь берет на себя; установили новые пошлины, учредили кабаки, бедному казаку нельзя|84: уже водки, меда или пива выпить, а про вино уже и не вспоминают! Но до чего, паны-молодцы, дошла московская жадность? Велят вам носить московские зипуны и обуваться в московские лапти! Вот неслыханное тиранство!.. Прежде вы сами старшин себе выбирали, а теперь москаль дает вам кого хочет; а кто вам угоден, а ему не нравится, того прикажет извести. И теперь вы уже живете у них в презрении; они вас чуть за людей считают, готовы у вас языки отрезать, чтоб вы не говорили и глаза вам выколоть, чтоб не смотрели… да и держат вас здесь только до тех пор, пока нас, поляков, вашею же кровью завоюют, а после переселят вас за Белоозеро, а Украину заселят своими московскими холопами» [74]*.
Казакам, конечно, лучше было знать, приказано ли им носить зипуны и обуваться в лапти, но какой-то «идейный базис» надо было подвести под измену. Потому, когда их спросили: «А що! Чи сподобалась вам, панове молодци, рацея ёго́ милости пана комиссара?» — последовал восторженный крик: «Горазд говорить!»*
Пасквилями, наветами, подметными письмами, слухами полна вся вторая половина XVII века. Поколения вырастали в атмосфере вражды и кошмарных рассказов о московских ужасах.
Зная по опыту могущество пропаганды, мы только чуду можем приписать, что малороссийский народ в массе своей не сделался русофобом.
Сочинение антирусских памфлетов продолжалось до самого упразднения гетманства в 1780 г. Теперь достаточно хорошо выяснено, что рассадником этого творчества на Украине была войсковая канцелярия — бюрократический центр казачьего уряда. Чинов этого учреждения помянул в XX веке Грушевский, как беззаветных патриотов, трудившихся «в честь, славу и в защиту всей Малороссии» {54}.
Установлено, что стараниями этих «патриотов» размножались и долгое время ходили по рукам фальшивые речи Мазепы к казакам в 1708 году и столь же фальшивая речь Полуботка. Кроме школы войсковых канцеляристов, существовал новгород-северский кружок, возглавлявшийся сначала Г. А. Полетикой, а после его смерти О. Лобысевичем.|85: Недавно одним самостийническим историком высказано предположение, что именно членами этого кружка инспирирована книга Бенуа Шерера «Annales de la Petite-Russie ou Histoire des cosaques saporogues», вышедшая в 1788 г. в Париже [75]. Книга эта, написанная вполне в казацком духе, полна извращений истины. По мнению упомянутого историка, новгород-северцы не только снабдили Шерера материалами, но и впоследствии, через своих заграничных агентов, представляли ему новые сведения, «спонукаючи його до нової публікації».
Как им, так в особенности чинам войсковой канцелярии, принадлежит честь обобщения и оформления казачьего творчества, заложившего основу современной самостийнической «платформы». Их стараниями стал меняться взгляд и на гетманскую власть. До Хмельницкого гетманы были простыми военными предводителями; недаром слово «гетман» произошло от «Hauptmann». В лучшем случае, это был глава казачьего сословия. Но после того как Богдан усвоил тон народного вождя, после того как царь Алексей Михайлович предельно ослабил свою власть в Малороссии, к военному характеру гетманских функций стали прибавляться черты гражданского правителя. Этого оказалось достаточно, чтобы пылкие головы забыли о подданстве и стали смотреть на булаву как на скипетр. Следствием этого явилось некое освящение личности самих держателей булавы.
После смерти Богдана мы не видим на его месте ни одного сколько-нибудь значительного человека. Все это простые властолюбцы типа Выговского и Самойловича, авантюристы вроде Тетери и Дорошенко, алчные печенеги вроде Брюховецкого или законченные карьеристы и себялюбцы, как Мазепа. Тем не менее, уже в XVII веке началась их идеализация. Когда заинтриговавшийся Выговский, отвергнутый казачеством, брошенный старшиной, был расстрелян поляками,— левобережный гетман Брюховецкий оповестил народ, что Выговский пострадал «за правду». Сам Брюховецкий, убитый собственными казаками, удостоился впоследствии тоже доброго слова. Гетмана Д. Многогрешного, как известно, схватила и обвинила в измене|86: сама генеральная старшина, потребовав от Москвы его наказания, но когда Москва, плохо верившая в действительную измену гетмана, сослала его в Сибирь в угоду казачеству, та же самая старшина стала распространять слух о невинном заточении Многогрешного. То же было с Самойловичем. Московские бояре ни минуты не верили в его виновность и даже жалели, но они не могли не считаться с категорическим требованием старшины убрать неугодного предводителя. Этот гетман снискал себе в народе всеобщую ненависть. Тем не менее, и из него сделали страдальца за Украину. Но самого неожиданного ореола удостоился Мазепа. Сомнительный малоросс, человек польского склада, задумавший под конец жизни присоединить Украину снова к Речи Посполитой на условиях Гадячского протокола, крепостник и притеснитель крестьянства, стяжатель, он сам знал, что его ненавидят в народе и в старшине, и потому шагу не делал без своих сердюков, игравших при нем роль янычаров. Это был самый, может быть, непопулярный из всех гетманов. Когда он изменил, за ним никто не пошел, за исключением двухтысячной банды запорожцев да нескольких человек генеральной старшины. Тем не менее, ни один гетман не превознесен так в качестве национального героя, как Мазепа.