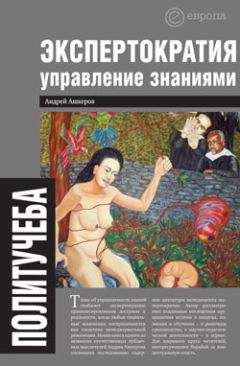Глава 10
Модернизация целей
Отвечая за возможность существования общества в будущем, образовательные институты сами нацелены на то, чтобы сохраняться в неизменности, лимитировать изменения, откладывая их или по крайней мере сводя к минимуму. Известная скептическая поговорка, согласно которой образование учит нас жить в несуществующем мире, должна пониматься с точностью до наоборот: образование делает достоянием повседневности утопические горизонты существования. При этом образовательные утопии всегда носят консервативный и отчасти даже ностальгический характер. Образовательная деятельность разворачивается в модусе «будущее-в-прошедшем», соответствуя практикам инставрации, раскрывающим возможности, некогда оставленные без внимания или преданные забвению.
Функционирование любого общественного института связано со своеобразным сопротивлением времени. Любой общественный институт воплощает специфический набор способов отсрочки перемен, которые находят выражение в стратегиях пролонгации существования, неповторимых для каждого типа учреждений. В случае с образованием подобная стратегия приобретает хрестоматийный (во всех смыслах слова!) характер: всем известен «спасительный консерватизм» образовательной системы. Последняя отвечает за перемены в обществе именно потому, что всеми силами избегает перемен в собственном устройстве.
Можно сказать, что, подобно тому, как матрешка скрывает в себе свою уменьшенную копию, современное общество скрывает в себе традиционное общество, то есть особый пласт объективированных отношений, все существование которых сопряжено не с производством нового, но с воспроизводством уже существующего (причем с воспроизводством, подчиненным логике «традирования»).
Образование представляет собой деятельность, которая не просто объемлет или фиксирует традиции, но делает их сохранение условием существования общества в будущем. Технократическое понимание назначения системы образования связано с тем, что сравнение института с механизмом утрачивает черты метафоры. При этом образовательные и не только образовательные институты не функционируют в автоматическом режиме, необходима постоянная наладка их механизмов.
Рынок в отечественном понимании всегда был средством снять с себя ответственность за этот процесс наладки. Либеральный тезис о «невидимой руке рынка», которая все расставляет по своим местам, приобрел в наших условия статус одновременно этической максимы и онтологического аргумента. Рыночные отношения были восприняты, с одной стороны, как среда ничем не ограниченной самоорганизации, где любой субъект чувствуют себя «как в природе» и все можно пустить на самотек, а с другой – как арена деятельности автоматизированных систем, среди которых самыми машиноподобными существами являются люди. В качестве организационного феномена российский рынок воплотил в себе сочетание предельного натурализма с предельным механицизмом.
Болезненнее всего это сказалось на системе образования, поскольку ее организационная структура, требующая постоянного вмешательства «настройщика», оказалась отданной на откуп рынку, а вот субъекты, вовлеченные в образовательную деятельность, рассматриваются как обучаемые машины. Государство утверждает образовательные стандарты, выдает лицензии вузам, производит их аккредитацию, но не формулирует целей образования. Образовательная система функционирует в инерционном режиме, что оборачивается в том числе и многочисленными «техническими» сбоями.
Образование функционирует как технология целей, а не средств. Однако главный кризис современного российского общества связан именно с целеполаганием. Университет имеет отношение к самой целесообразности «как таковой»; его миссия не столько в осознании порядка, сколько в формировании порядков осознания, то есть в управлении знанием, познанием и сознанием на уровне создания их матриц.
В позднесоветскую эпоху образование ставило перед собой общегуманистические «интернационалистские» цели. Кризис советского проекта ранее всего проявился в рамках существовавшей модели образования, которое так и не стало системой воспроизводства советской цивилизации (прежде всего ее ментальных устоев). Советская цивилизация меньше всего осознавала себя как цивилизация, поэтому советское образование было не подспорьем, а препятствием в таком осознании. Идеология советского образования в послевоенную эпоху – это идеология борьбы за мир, которая рано или поздно должна была трансформироваться в идеологию «общечеловеческих ценностей». Однако утверждение идеологии «общечеловеческих ценностей» фактически равносильно деидеологизации.
Состояние деидеологизации образования подразумевает открытость для наиболее агрессивных идеологических веяний, ничто уже не может защитить от их влияния. Говоря иначе, если ты сам не в состоянии сформулировать собственные цели, за тебя это сделает кто-то другой. Образование, не являющееся практикумом целеполагания, не может соответствовать своему статусу.
Сегодня с систематической постановкой целей связана деятельность только двух типов учебных заведений: национальных школ, с одной стороны, и вузов, специализирующихся в области естествознания, – с другой. В первом случае целью выступает культивация этничности, во втором – обратившаяся в культ наука.
Фирменный технократизм путинской эпохи еще не обозначил создания технологии целей. Однако, безусловно, эта эпоха стала временем, когда технология целей превратилась в условие и ориентир для дальнейшего развития. Новый шаг в этом направлении – формирование навыков стратегического мышления, обучение техникам символической власти, ознакомление с новейшими рефлексивными методиками, которое должно начинаться еще со школы. Иными словами, образование должно стать институциональной средой развития самосознания, в которой местом локализации выступает коллективное тело нации.
При этом соединение связанных с самосознанием практик субъективации и национально-государственных форм жизнедеятельности не является, вопреки Гегелю, неизбежным и надежно гарантированным мудростью исторического разума. Эта встреча возможна лишь при условии превращения политик знания, политик мысли в основополагающие мироустроительные практики (в зависимости от которых должна находиться и Realpolitik со свойственным ей притязанием на то, чтобы подменять стратегические запросы сиюминутными тактическими решениями). Подобное превращение и есть непреложное условие современного цивилизационного бытия.
Цивилизация, в нашем понимании, представляет собой набор жизнеорганизующих кодов, системе которых соответствует своя особая модель объединения природы и культуры в континуум. Любая цивилизация и есть уникальный континуум природы и культуры. При этом жизнеоорганизующие коды должны пониматься не как автоматически действующие механизмы, но как предметы и одновременно способы рефлексии, которая лишь при таком раскладе принимает облик планомерного мироустроения.
В этом смысле ключевую роль для России сыграл советский период ее истории – прежде всего потому, что именно тогда мироустроение стало по-настоящему рефлексивным (хотя сама рефлексия и осуществлялась в рамках предписаний заемной идеологии). Разумеется, марксова идея подчинения исторического процесса принципу планомерности не сработала в данном случае буквально. Тем не менее, воспринятая в качестве нового жизнеустроительного кода, она оснастила российскую цивилизацию рефлексивным отношением к собственному будущему (без этого отношения ни одна цивилизация после модерна не может пройти тест на дееспособность). Это повлияло и на судьбу марксизма как наиболее радикальной концепции модернистского переустройства жизни: из теории научного объяснения объективного хода истории он превратился в практику рациональной реорганизации жизни, положив начало многочисленным стратегиям управления будущим.
Постсоветская модель существования строилась и все еще пока строится на разделении мироустроения и технократии. Сделав собственным императивом функциональность и функциональные нужды, технократия не только оттеснила, но и выхолостила мироустроение. Последнее перестало восприниматься как набор практических умений и было перенесено в сферу чистого духа (чтобы ни выступало его мистической субстанцией).
Ключевую роль в произошедшей трансформации сыграло шестидесятничество: его жизненный проект характеризует, с одной стороны, абстрактная морализация на тему добра и зла (причем добро и зло множество раз могут меняться местами), а с другой – тренд «управление ради управления», когда средства виляют целями, как хвост собакой.