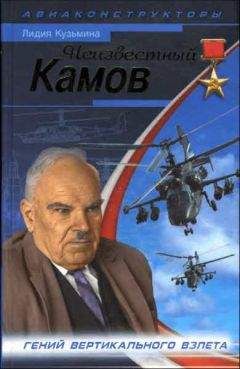Ядир ступил на рыхлый песок. Его щекочущая прохлада надежно приняла босые подошвы, уже изрядно истомленные склизкой зыбкостью воды. И Властелин довольно заурчал, смакуя каждый шаг по тверди. Пустынно-благодатным нежился перед Ядиром вековой бор, на время стерилизованный от человеческих бацилл. Вкрадчиво и одиноко прошипев днищем по песку, ткнулась в берег тугим носом лодка. Шагнул на борт и грузно спрыгнул в воду Кокинакос. Взял увесистый простынный сверток у сестер, вынес на берег. Нагнулся, уложил обвисшую тяжелую бель у ног…
Они сегодня-таки сотворят свой Сцидо Амафрейкес, предписанный их древней тягой к мести — в честь Мордехая и Эсфири. И благостно и хищно вскипавший в племенной памяти, настоянной на смертоносных, как яд гюрзы, преданиях и мифах, где властвовали над людскими скопищами его прапредки зилоты и сикарии.
Ядир вздохнул прерывисто и сокрушенно: как стройно, мудро было слеплено все предками, как возвышало драгоценным таинством их вязко-местечковую спайку в этом деле!
В пятнадцатый день Шайвата вел старшина подсчет не шекелей, а гойских денег — на христианскую кровицу. Потом их всех от мала до велика накрывал божественный Пурим. Затем выкрадывали иль выкупали на собранные деньги христианских младенцев и добывали из них долго, со смачным наслажденьем кровь: кололи, надрезали кожу, протыкали печень, катали в бочках, утыканных гвоздями. И лишь затем все приступали к сборам багряной, с пряным парком живицы — под визг и верещанье тех, кто был им предназначен Высшим провиденьем в жертвы. Затем, закончив сборы, мочили в жертвенной крови полотенца и простыни. Сжигали их. По крохам, не дыша, собирали пепел.
И эта драгоценная и невесомая субстанция, огражденная от гойских глаз и ушей набором предостережений, шла в дело: в пищу роженицам — для облегченья родов, в медовые пряники Пейсаха, на закрытые веки покойников... да мало ли куда использовалась эта жижа, сцеженная с младенцев и превращенная очищающим огнем в пушистую серятину — прах... как было стройно все и мудро, а ныне старится, ветшает и чадит под слизью опасений, страха...
...Свита, между тем, вершила сноровисто свое дело. Кок запалил в мангале из сухих ветвей костер. Едва приметные на солнце языки огня плясали в дымном мареве свой зыбкий перепляс.
Костер из вереска догорал в мангале. Груда углей, разровненная коком по днищу мангала, полыхала малиновым жаром — под стук секиры. Начальник охраны Иосиф, зачехленный в кожаные доспехи римского легата, стесывал секирой кору с кряжистого дуба-великана, стоявшего поодаль от леса.
Закончив тесать, стал приколачивать к затесине поперек ствола метровую плоскую слегу. Два кожаных лоскута куртки, прикрывавшие его голый зад, дергались в такт ударам, хлопали по твердым полушариям.
И Ядир, следя за плотницкой процедурой, почуял, как набухает кровью, распирает чехол в алмазах его мясистый и могучий орган, нацелено ориентированный на эти полушария. В них был свой смак: вид полушарий грел в предстоящих групповых утехах с разнолобковыми самками.
Но параллельно с этим смаком в иные — мозговые полушария Ядира недавно стал заползать предостерегающий холод. Новый глава его охраны Иосиф ходил и действовал при Властелине недопустимо нерасшифрованным. Если кок, мартышка и две самки были для Владыки стеклянно-прозрачными, то этот важный спец по тайно-виртуозным операциям, гроссмейстер восточных единоборств, стратегически обученный сторожевой пес со сверхчуткой интуицией на опасность, умеющий одинаково равнодушно общаться как с говночистами, так и с президентами, — этот новичок в свите Ядира не впустил в донные глубины своей натуры никого.
Даже Ядира. Десятикратно проверенный, отобранный спецслужбой Иосиф был иудеем-зилотом, прямым потомком полководца и историка Римской империи Иосифа Флавия.
И этот внучатый потомок два дня назад бездарно прокололся.
Оборудованный биопротезами медвежьих лап и медвежьей башкой, в которую была вмонтирована потайная кинокамера, он выкрал младенца у староверов, попутно угробив родителей безупречно звериным приемом — изодрав их до костей.
Но кинокамера — этот бесстрастный прокурорский глаз, зафиксировала недопустимое в его поведении: жалость. Неприметным шустрым пруссаком сквозанула она в действиях Иосифа. Если хозяин Оседень был умерщвлен молниеносно, тихо и нещадно, то перед самкой его сработал в исполнителе некий сбой — затор. Ей было позволено сопротивляться. И даже выпустить наружу вопль, который едва не сорвал все дело. Дитеныша убитых, этого потса-вундеркинда, он усыплял хлороформом и уносил с совсем уж неприличной бережливостью.
Но самое недопустимое было в конце операции: макая коготь в кровь убитой самки, он начертил поверх фетвы Корана на стене фамильный и Верховный знак Ядира: "Надзирающее око". Зачем? Чтоб запустить в примитивную черепушку следака тонкий намек на толстые обстоятельства — "медведь здесь не причем"?
Но спрашивать Иосифа об этом было еще рано. Накопятся другие факты — настанет время для допросов.
...Творец жратвы Кокинакос выпрямился и взглянул на Ядира: все готово. Можно начинать?
Ядир, все еще прижмуренно следящий за тугим задом Иосифа, ощутил этот взгляд кожей. Нащупав обострившимся чутьем Юфь-жрицу, Ядир послал ей даже не приказ — их общее нетерпеливое желание: "ПОРА!"
Жрица Юфь развернулась к свертку, на коем уже был развязан бант. Бело-холстинный предмет слабо дернулся. Из его недр высочился тонкий плач. Юфь развернула полотно. И вся взбудораженная ожиданием компания завороженно осеклась.
Как изваяние мастера, как ожившая праздничная кукла, доселе скрываемая холстом, на свет явился херувим.
Он оперся ручонками о песок и сел, пошатываясь в вязкой одури снотворного, все еще клубившегося в голове. Это было пятилетнее дитя с розовым, распаренным личиком в кудрявом овале льняных волос. Казалось, в пол-лица мерцали, наполняясь изумленной тревогой, глаза — два голубых, омытых слезами блюдца.
Солнце плеснуло в них белым жаром, и два зеркальца невинной души затрепетали, захлопнулись веками. Длинная тень от ресниц невесомой сеточкой пала на лицо.
Под ним вспыхнул под лучом солнечной желтизной янтарный крестик на груди, куда в уютном сочетании был впаян полумесяц с малой звездочкой.
Воркующе и осторожно приступила к делу жрица Юфь, ибо всем им предстояло унести в глубины моря с этих хазарских песков не только ликованье сытой плоти, но и насыщенную древним обрядом память. А она нуждалась в точных деталях сотворенного: где, когда, как вела себя в обряде жертва, и, главное, — она должна сама сказать все о себе.
— Как звать тебя, ангел? — спросила Юфь. Молчала жертва, осмысливая происходящее, и темной предгрозовой невзгодой, предчувствием сиротского страданья и незащищенности от него полнились детские глаза.
— Я спросила как твое имя, мой... ангел? — построжала, охладела голосом жрица.
— Я хочу пи-пи, — опять не выдал имени ребенок, пока что бессознательно сопротивляясь враждебно-чужеродному вокруг себя. Да, ангелом он был. Но не ее, не этой, бесстыдно голой, с кроваво-красными губами.
— Ты вредный мужичок, — помедлив, попеняла Юфь, — конечно же, мы сделаем тебе пи-пи. Твое брюшко должно быть чи-и-и-истым. Вставай, потс.
Малыш поднялся. Но тут же шлепнулся на задок: не держали еще тело ножки и плавала в эфире голова, не отошедшая от двухсуточного полотняного плена и снотворной дури.
Юфь прихватила за бока и вздернула увесистое тельце. Прижала к силиконовой груди левой рукой. И, приподняв его отросточек холеным остроногтевым пальцем, велела, уже не скрывая прущего наружу омерзенья:
— Ну, очищайся побыстрей, свиненок!
Светлая струйка дугой ушла в песок. Хазарский берег впитывал ее в себя, едва приметно прогибаясь от тяжести обрядового очищенья.
— Как пацана назвала мамочка? — вновь попыталась разрешить неожидаемый и непредвиденный затор нагая жрица.
— Ни мамочки, ни папы нет. Вы же не скажете, где они. Вы мне не скажете?.. — переспросил он со слабой, сразу же угаснувшей надеждой. — Тогда зачем вам мое имя?
Не поддавался ангел, напрягаясь в неравном единоборстве.
— Ты скоро их увидишь, — пообещала с ледяным злорадством Юфь. — Хотя... не так уж скоро. Тебе придется много терпеть. И очень долго.
Она прикидывала: ударить, вплющить хлесткую ладонь в мордашку или рано? Пожалуй, рано — нет имени из его уст (они-то знали это имя), нет страха и мольбы. И все идет пока не по обряду.