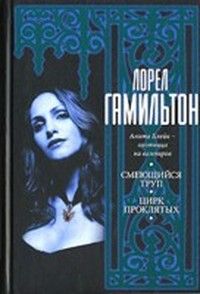После десятого класса я стал петь в самодеятельности — в двух клубах, завода «Серп и молот» и геологоразведочного института. Устроился в Большой театр в бутафорский цех. Гонял себя основательно. Тем не менее на второй год поступления в ГИТИС меня опять срезали. Просто неорганизованность — мальчишка, шаляй-валяй.
— Что вам дал Большой театр, кроме знания сцены от рампы до колосников?
— Осознание того, что большое искусство — глубинный процесс. Я видел, как великая Ольга Лепешинская в партии Китри в «Дон Кихоте» выбегала со сцены за кулисы, совершенно задохнувшаяся, и ложилась на кушетку, глотая воздух ртом. И все это — пока шли аплодисменты. А потом, не отдышавшись толком, обратно на пуанты. И танцевала она невероятно! В опере ходил на все занятия и репетиции. Просился: «Можно пойти на выгородку?» — на сцену, расставлять ширмы, стулья. «Война и мир» Прокофьева, сцена у Элен или у Долохова — представляете, сколько предметов? Тут чашку, сюда подсвечник. И стул бы не забыть, и не один.
— И еще из зала орет постановщик «Войны и мира» Борис Покровский…
— О как он орал! И такое характерное движение у него было — лицом в ладонь и потом носом воздух выдыхать, шумно… А Георгий Павлович Ансимов, мой будущий педагог в ГИТИСе, ставил в Большом «Повесть о настоящем человеке» того же Прокофьева. «Немцы подшибли меня… но надо идти, идти через лес», «резать, резать и никаких разговоров». Я сидел «в засаде» с Евгением Кибкало — исполнителем роли летчика Маресьева, — и мне надо было в нужный момент поставить на поворотный круг два заснеженных куста, чтобы он прополз мимо них. А в «Декабристах» Шапорина однажды понадобилось ударить в огромный барабан за сценой. «Есть среди рабочих музыкальный человек?» — «Есть, вот он, Лева зовут». — «Так, Лева, когда будут стрелять — давай со всей силы!»
Все спектакли смотрел, если смена утренняя или ночная.
— А спорт? Баскетбола в Большом театре, кажется, не водилось.
— Зато был волейбол. И я немного поигрывал вместе с Володей Васильевым, ныне знаменитым танцовщиком, в волейбол (сетку натягивали прямо в балетном классе) и в настольный теннис. С тех пор мы с ним как-то не пересекались — не знаю, помнит ли он: ну Лева и Лева… Все меня знали, здоровались: Женя Кибкало, Саша Ведерников, Артур Эйзен, Тамара Милашкина… Я Лемешева застал, когда он пел Ленского. Самое интересное, что потом Сергей Яковлевич стал худруком студии Гостелерадио, где я работал. А Георгий Ансимов — моим художественным руководителем в ГИТИСе, когда я туда все же поступил после армии. Но про Большой я ему никогда не напоминал.
Вот Борису Александровичу Покровскому напомнил. Мы были на дне рождения у Муслима Магомаева, сидели рядом. Покровский помнил меня по ГИТИСу: я был первокурсником, но играл в выпускном спектакле его курса — это был первый отечественный мюзикл «Кто ты?» Микаэла Таривердиева…
Так вот сидим с Борисом Александровичем. Заходит речь о «Войне и мире». Я не говорил, что работал, просто сказал, что помню постановку, эти грандиозные надувные колонны. Какие-то номера даже напел вполголоса — я с репетиций и спектаклей почти всю оперу запомнил, включая хоры. Он опешил, конечно: Лева, эстрадный певец — и вдруг оперный Прокофьев наизусть! Что ж, на пятом ярусе Большого театра, с которого прослушал весь репертуар, была хорошая школа.
— После чего — другая: армия. Танковые войска.
— А хотел в ансамбль Московского военного округа — где потом, кстати, служил Вова Винокур. Перед призывом появляюсь там, прослушиваюсь. Мне говорят: «О, хороший голос, берем. Как только попадешь в часть, сразу пиши оттуда — и мы тебя заберем». Я попадаю в тамбовские лагеря, а оттуда нас — бабах! — в Группу советских войск в Германии. А оттуда кто меня будет вызывать в Москву?
И попадаю я в танковую роту. И сразу же на учения. А это 1961 год, наши и натовские танки стоят друг напротив друга у Бранденбургских ворот. Спали с автоматами по положению № 1 месяца полтора-два, даже больше. В тот год у нас задержали демобилизацию на несколько месяцев — нельзя было отпускать обученных солдат. Все на самом деле думали, что начинается третья мировая. Можно представить, что это были за учения. Влезаешь в «тридцать четверку»…
— Вроде уже Т-55 были на вооружении, нет?
— Молодым Т-54 и Т-55 не давали. А Т-34 для того, чтобы мызгать по лесам, по полям грязь помесить, — то, что надо. Вот на дивизионных учениях — да, уже современные машины, со стабилизирующейся пушкой и прочим сервисом. Я заряжающий, болванка весит 33 килограмма, два пуда. Выстрел шарашит так, что ушам выжить невозможно. А хуже всего, когда танковый пулемет работает: от него никакой шлемофон не спасает. К тому же начальство, зная, что я пою в хоре полковой самодеятельности, назначает меня батальонным запевалой. «Я не могу петь на морозе». — «Ты что, трам-тарарам?! А ну пой!» А самодеятельностью руководит жена командира полка. Я к ней: Ольга Сергеевна, так и так, я хочу в институт, а меня — петь на мороз. Она: «Нет вопросов. И вообще на учения больше не поедешь. В декабре смотр в штабе армии, готовиться надо».
И попадаем мы в штаб в Фюрстенберг, на смотр. Я запеваю: «Ярко горя, пылала в небе заря… что-то там Ленин ведет за собою рабочий народ…» — партийная песня, обычная. Подходят ребята из ансамбля армии: «Слушай, хороший голос. Подойди к нашему руководителю, тут как раз баритона не хватает». Подхожу к руководителю. Он: «Что умеете?» Я: «Римский-Корсаков, «Демон» Рубинштейна… И достаю ноты — я ведь взял их с собой, рассчитывая, что попаду в ансамбль Московского округа.
«Возвращайся к себе, вызовем». Но не вызывают и не вызывают несколько месяцев. И вот сижу я в каптерке, чищу пулемет. Приходит старшина-украинец и говорит: «Лэшшэнко, подъем и на выход. Тебя в другую часть переводят». Привезли меня в Фюрстенберг, выдали новую гимнастерку и к ней портупею, повели на танцы — единственного обритого среди них, с фасонными прическами. Стою в сторонке, бьет меня колотун. Ведь что такое служба в Германии? Колючая проволока вокруг, никаких свиданий. Пройдет на плацу продавщица из чайной — и все. А тут столько девушек сразу. Размещался ансамбль в хорошем трехэтажном доме, принадлежавшем бывшему немецкому профессору-медику. Анфилада из лестниц, озеро роскошное. А работал этот профессор в женском концлагере Равенсбрюк, где десятки тысяч заключенных погибли: он ставил на них эксперименты. И вот мне начальник ансамбля говорит: «К 23 февраля готовим песню «Бухенвальдский набат». Я слышал, как ее поет Муслим. Стал учить. И для этого попросил свозить меня в Равенсбрюк. А там музей. Вижу эти печи, ужас этот… И 23 февраля выхожу на сцену — клуб огромный, настоящий переполненный зал. Вспоминаю увиденное, и у меня горло перехватывает. А потом собираюсь и разрываю этот зал. Бисирую. Так и закрепился в ансамбле. Позже с ним почти всю Германию увидел.
— Экономика зарубежных гастролей — уже штатских советских артистов — сегодня может поразить воображение тех, кто не жил в СССР. Вы кем были — «консерватором» или «суперменом»?
— И то и другое понемножку. Только у нас «консерваторы» — те, кто брал с собой на гастроли уйму банок с провизией, чтобы не тратиться за границей на еду, — назывались «банкометами». А вот тех, кто с той же целью набивал чемодан пакетиками с растворимыми супами, называли именно «суперменами». Допустим, в Японию наши, конечно, везли в основном супы: далеко, тяжело. Хотя сам был свидетелем, когда около гостиницы в Токио у одного из наших музыкантов рухнул чемодан и десятки консервных банок раскатились по мостовой. Долго собирали.
Завтраки были в гостинице, а обед и ужин надо было из чего-то варить. Приспосабливались как угодно. То, что кипятильники, включенные в сеть одновременно, вырубали ток по всей гостинице, — сущая правда, поэтому выстраивали график пользования. Горячее варили в чайных кружках. Приходишь после работы, идешь по коридору — все понятно по запахам: здесь курицу готовят, отсюда супом рыбным пахнет. Кто-то между двух утюгов мог пожарить мясо — наше советское барбекю. В гостиничный телевизор надо было кидать сто иен, и он работал полтора часа. Наши же умельцы, проделав что-то несложное с монетоприемником, смотрели телик бесплатно. Японцы приходили, трясли коробку с деньгами — а там ничего. Хотя все смотрят.
Но сначала надо пройти выездную комиссию райкома. Едешь в Японию — тебя спрашивают, кто там император, какое население. Были абсурдные вещи. Юрия Визбора раз не пустили во Францию. Он писал сценарий под условным названием «Москва — Париж», и на комиссии его зарубили. Спросили, сколько районов в Москве. Он сказал: «Не знаю, может, тридцать или тридцать один». — «Ну как не знаете, а работаете над сценарием о Москве!»
Меня не пустили в Латинскую Америку — потому что я не проработал достаточно времени на Гостелерадио, и на этом основании мне отказали в характеристике. Но в 1973—1974-м меня отправляют в Японию на сорок дней на выставку достижений социалистической Сибири. Мы работаем на выставке, а параллельно — в четырехтысячном зале «Коракуэн» концерты для японцев. Сначала два аншлага, потом все меньше, меньше, пока в зал не пришло 15 человек.