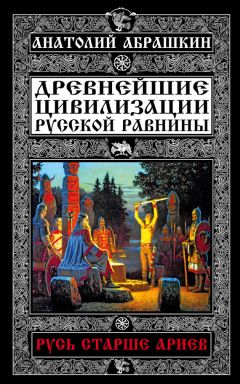Была у нас еще одна учительница, которую мы любили — это Ида Львовна Гельфанд, преподавашая математику.
Мне нравилось учиться. Учителя были мною довольны. У меня были почти все пятерки. Но не долго мне довелось учиться, к великому моему сожалению. В этой школе до войны я закончила семь классов.
На этом закончилось мое счастливое детство. Я называю его счастливым, потому что тогда еще жива была вся моя семья.
В дальнейшем моя судьба сложилась так, что из детства мне пришлось перешагнуть не в юность, а в суровую взрослую жизнь.
Наступила самая ужасная ее пора — война. Любая война страшна, но Вторая мировая война началась с катастрофы евреев.
В тот день, когда германские нацисты напали на Советский Союз, — 22 июня 1941 года — трое из четырех моих братьев находились в армии: Абраша служил в Бресте, Сеня — в Ленинграде, Яша — в Волковыске.
Боря к тому времени закончил 9 классов. Сестры Оля и Ида жили своими семьями, их мужья работали. Папа был здоров, заведывал пекарней. Мама летом уже 3 года работала поваром в одном и том же пионерском лагере, начальником которого был Израель Лапидус.
В злосчастное лето 1941 года мама, Галя и я отправились в лагерь в начале июня. Он располагался в 25 километрах от Минска по Могилевскому шоссе, в местечке под названием Апчак Горький.
В первую же ночь на 22 июня немцы бомбили Минск. Город был охвачен пламенем, и зарево пожаров было видно даже там, где мы находились.
В тот же день наша семья — папа с Борей, сестры с мужьями и детьми — бежали из Минска к нам в лагерь. Они шли всю ночь, детей несли на себе, измучились. Они рассказали, что Минск в огне, толпы людей бегут из города. Папа сказал, что нужно идти к железнодорожной станции и попытаться уехать на восток. Но оказалось, что уже поздно — немцы были далеко впереди.
В лагере были небольшие домики для обслуживающего персонала. В одном из них жила мама. Там же разместилась наша семья.
На следующий день из Минска стали прибывать люди, чьи дети отдыхали в лагере. Они повторили, что Минск в огне, а на шоссе они видели немецкие танки.
Семья Лапидуса тоже была в лагере.
Зарево Минска становилось с каждым днем все меньше и 27 июня все, в том числе и наша семья, пошли обратно в Минск. Возвращаться не хотели, но другого выхода не было. Когда вышли на шоссе, увидели, как на восток шла лавина гитлеровцев: танки, артиллерия, автомашины. На них сидели немцы с самодовольными физиономиями, с засученными рукавами. Одни играли на губных гармошках, другие горланили песни. Конца колонне не было видно. Жутко и больно было смотреть на эту мощь. Такими я впервые увидела немцев.
А по обочинам шоссе обратно в Минск тащились те, кому не удалось эвакуироваться. Детей везли в колясках, несли на себе измученные люди.
Поздно вечером семья пришла в Минск и собралась в нашей маленькой квартирке.
Минск был весь в развалинах и пожарищах. Уцелели считанные здания.
Немцы вошли в Минск на 6-й день войны. На автомашинах были установлены громкоговорители. Эти машины разъезжали по городу и из репродукторов разносилось: «Juden kapputt». Каждый день узнавали: кого-то застрелили, кого-то повесили. Фашисты вводили в городе свой «новый порядок». Дети не выходили на улицу, им даже не надо было объяснять, они все понимали. Взрослые тоже старались как можно реже выходить на улицу — это было опасно для жизни. Любой немец или полицай мог застрелить только за то, что еврей.
Многие из местных жителей пошли служить в полицию, стали полицаями. Им выдали черные кители с белыми повязками на рукавах и оружие.
Немцы по внешности не могли определять, кто еврей, зато полицаи хорошо разбирались в этом, помогали немцам и вместе с ними убивали евреев.
По всему городу 16 июля был развешан приказ, обязавший всех трудоспособных мужчин явиться с документами, подтверждающими профессию, для регистрации в целях получения работы. Поскольку не требовалось указать национальность, никто не заподозрил, что это провокация. Мужчины пошли по указанному адресу, в том числе и Хоня с Зямой.
Оказалось, что в итоге оставили на сборном пункте только евреев, а всех остальных отпустили. В Минске была улица под названием Широкая, там был пустырь. Туда привели этих евреев, два дня держали под охраной без воды и пищи под палящим солнцем, никого к ним не подпускали, а затем вывезли в пригород Минска Тучинки, где были заранее вырыты ямы, и расстреляли. Так гитлеровцы в первые же дни оккупации начали уничтожать молодых здоровых евреев-мужчин, которые могли бы с ними воевать.
Когда там погиб муж моей старшей сестры Оли, она решила уехать к его родителям. Они жили в местечке Смолевичи Минского района. Все надеялись, что там будет спокойнее и безопасней. К тому же у родителей Хони было свое хозяйство — корова и прочее, что решало проблему с продуктами питания.
Поскольку до создания гитлеровцами еврейского гетто можно было еще из Минска переезжать в другие места, родители Хони договорились с соседом, у которого была лошадь, чтобы он привез Олю с детьми к ним. Мы даже не могли предположить, что тогда простились с сестрой и племянниками навсегда.
Через месяц нацисты их уничтожили.
А в Минске в те дни были развешаны приказы, запрещавшие евреям ходить по тротуарам, здороваться и разговаривать с неевреями, требовавшие при встречах с немцем снимать головной убор и кланяться ему.
Следующим приказом евреям ходить по улицам разрешалось только с рассвета до наступления сумерек.
Вскоре последовало распоряжение, обязавшее всех евреев носить на спине и груди желтые латы диаметром 10 см.
Все приказы и распоряжения заканчивались словами: «за невыполнение — расстрел», и это были не только слова… расстреливали по поводу и без повода.
И вот наступило 20 июля 1941 года. По всему Минску был развешан приказ коменданта города, обязавший всех евреев, а в городе до войны они составляли треть населения — 80 тыс. человек, переселиться в гетто. Они могли взять с собой не более 20 кг на человека.
Было указано 18 улиц, которые включались в гетто, и Юбилейная площадь, в двухэтажном доме, расположенном на ней, обосновался «Юденрат» — управление гетто.
Гетто было огорожено высоким забором из колючей проволоки. В одном только месте были поставлены охраняемые немцами и полицаями ворота для входа в гетто и выхода из него. На воротах висел плакат: «За попытку к бегству — расстрел».
Этот район города был застроен преимущественно одноэтажными деревянными домами. Неевреи покинули их и переселились в квартиры, покинутые евреями, и все имущество переходило в их пользование.
Евреи же получали жилплощадь в гетто из расчета 1,5 кв. метра на взрослого человека; дети в расчет не принимались. В одну квартиру вселялось по несколько семей. На тесноту внимание уже не обращалось. К нам в квартиру вселилась пожилая пара: ему было 75 лет, а супруге — 70.
Гетто привело к распаду многих смешанных семей. Лишь в редких случаях муж или жена спасала супруга, увезя его в деревню. В нашу квартиру вселился еще один еврей. Это был солист Белорусского театра оперы и балета Бродский 45-ти лет отроду. Его жена — тоже солистка этого театра — была русской. Первое время она через проволоку передавала мужу еду, потом стала приходить все реже и вскоре совсем перестала его навещать, и он совсем сник.
Самая большая трагедия гетто были дети. Все лишения и беды они переносили молча: плача не было слышно; они все понимали и им не надо было ничего объяснять, даже кушать не просили. На них невозможно было смотреть. Когда с улицы доносились стрельба и крики, дети прижимались к взрослым.
Во время начавшихся облав мы боялись выпускать папу и Борю на улицу. В дома гитлеровцы еще не заходили. Но когда людей на улицах стало мало, нацисты начали вытаскивать их из домов. И вот днем 14 августа вначале стали слышны стрельба и крики людей, а затем вдруг распахнулась дверь, и в нашу квартиру ворвались два изверга. Их злобные рожи были похожи на морды диких зверей. Боря в этот момент был в маленькой комнате и успел заскочить на печь. Там же сидел Бродский. А папа сидел у стола в большой комнате. Изуверы бросились к нему и поволокли его на улицу.
Из окна мы увидели, что посреди мостовой, вымощенной булыжником, стояла толпа, окруженная немцами и полицаями. Туда и гнали людей из квартир. Когда согнали несчастных, их стали избивать, поставили на колени, а потом принудили их ползти по камням к стоявшим на обочине автомашинам. Тех, кто не мог идти, расстреливали на месте. Когда погрузили людей в машины, туда же бросили убитых. Больше мы папу не видели. Так погиб мой отец.
В гетто ели все, что можно было для этого приспособить. Пока было тепло, питались крапивой, варили из нее суп. Много росло такой травы вокруг еврейского кладбища, чтобы собрать ее там, надо было пройти по улице Республиканской. Однажды я пошла рвать крапиву. Впереди меня шла женщина, ведя за руку девочку двух-трех лет. Навстречу шел эсэсовец. Поравнявшись с женщиной, он вырвал из ее рук ребенка, бросил девочку на трамвайную линию и наступил ей сапогом на горло. Девочка даже не успела заплакать, только ножки задергались. Несчастная мать страшно завыла и рвала на себе волосы. От увиденного я не могла тронуться с места, а потом бросилась домой, заткнув уши, чтобы не слышать этот ужасный вой.