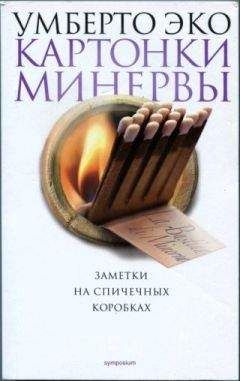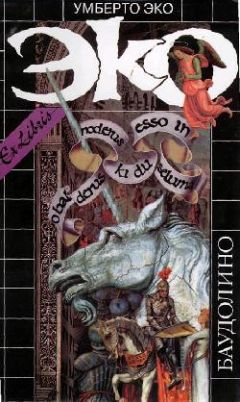Маффео признается, что имя сообщил он. Джелиндо свирепеет и обещает отколотить Маффео, потому что негоже-де имени гулять по свету как разменному пятаку. Имя является личным достоянием. Обнародовав чье-то имя, причиняют ущерб его носителю, отнимая у него часть privacy. Джелиндо, конечно, термин privacy неизвестен, но именно эту укромность неприкосновенной частной жизни он столь решительно защищает. Владей Джелиндо более интеллигентной лексикой, он сказал бы, что стремится к конфиденциальности, к отъединенности, или что защищает личное пространство.
Отметим, что тяга к анонимности — совсем не только архаический обычай. В 1968 году бунтующие студенты представлялись на митингах как Паоло, Марчелло, Ивано — без фамилии. Стремление укрыть фамилию порою шло от страха политических репрессий: везде могли быть информаторы полиции. Но по большей части у студентов это был политический шик, стремление подражать партизанам, у которых не было имен, а были прозвища (партизаны оберегали свои семьи). Смутное нежелание предавать свое имя гласности чувствуется у всех, кто звонит в прямой эфир радио- и телепередач, порою для того чтобы высказать нечто абсолютно невинное, или поучаствовать в отгадках. Но интуитивная стыдливость (и вместе с тем, может быть, привычка к навязываемой в передачах модели общения) побуждает их представляться как «Марчелла из Павии», «Агата из Рима», «Спиридион из Термоли».
Иногда отмежевывание своего пространства связано с боязливостью, с нежеланием отвечать за свои действия. Поневоле завидуешь тем государствам, в которых принято, выступая на публике, сразу четко заявлять свои имя и фамилию. Хотя если утаивание паспортного имени может выглядеть и странноватым и в ряде случаев необъяснимым, желание отгородить от публики свой личный мир мне кажется, в общем-то, закономерным. По старой традиции сор не выметают из избы. Вполне естественно стремление засекретить информацию о собственном возрасте, о здоровье или о доходах — в пределах, разумеется, не нарушающих компетенции закона или полицейского дознания.
Кто должен заботиться о защите конфиденциальности? Ну конечно, все те, кому желательно не обнародовать коммерческие трансакции, те, кто защищает свою личную переписку, кто сохраняет до поры до времени в секрете результаты научных опытов. Все это естественно, и существуют на свете законы, защищающие тех, кто взыскует конфиденциальности. Но много ли их, тех, кто действительно желает конфиденциальности? У меня рождается чувство, что один из главных абсурдов массового общества, общества, основанного на засилье прессы, телевидения и Интернета, — это добровольный отказ от privacy. В своей крайней форме отказ от privacy (а значит, и от сдержанности, вплоть до потери стыда) граничит с патологией, с эксгибиционизмом.
Так вот, мне кажется парадоксальным, что кто-то пытается сохранить укромность в обществе эксгибиционистов.
Социальная язва нашего времени — это утрата ценнейшего универсального клапана, во многом — благотворного средства разрядки, каким выступала в прежние времена сплетня.
Добрая старая сплетня, деревенские пересуды, болтовня консьержки, треп клиентов в баре — вот что было клеем любого общества. Не сплетничали же люди о том, что кто-то здоров, благополучен и весел. Сплетничали о недостатках, о немощах, о неприятных ситуациях в жизни. Тем самым срабатывали механизмы эмоциональной причастности (поскольку не все сплетни презрительны, сплетни бывают и сочувственны). Разговоры должны были вестись в отсутствие обсуждаемого. Вообще, естественно, требовалось, чтоб обсуждаемые не знали о гласности сведений. Тогда они могли сохранять лицо, притворяясь, будто продолжают не знать. Если же до обсуждаемого доходил сам факт сплетни, начиналась потасовка («сволочь такая, думаешь, мне не известно, ты же брешешь, будто бы у меня…»). Вследствие потасовки сведения официально становились гласными. Жертва превращалась в посмешище, подвергалась порицанию, и терзателям становилось нечего обсуждать.
Поэтому пока в обществе действовали такие мощные клапаны, как сплетни, все — терзатели и терзаемые — оберегали конфиденциальность.
Но потом появились сплетни нового типа. Их породило развитие прессы. Дотоле существовали специализированные издания, посвященные сплетням о таких личностях, которые по роду своей работы (актеры, актрисы, певцы, монархи в изгнании, плейбои) охотно выставляют себя напоказ фотографам и хроникерам. Все было шито настолько белыми нитками, что даже и читатели превосходно понимали, что если такой-то актер был замечен в ресторане с такой-то актрисой, это не обязательно значит, что между ними вдруг воспылала какая-то особенно сердечная склонность. Скорее всего, их встреча организована пресс-секретарями. Но читатели подобных изданий не искали истины, они искали именно развлечения и ничего более.
Чтоб одолеть, во-первых, конкурирующее телевидение, и во-вторых, чтоб заполнить немалое количество страниц, а значит, получить больше рекламных заказов, даже так называемая серьезная пресса, в том числе ежедневная, все больше уделяла внимания социальной жизни и очеркам нравов, и светской хронике, и сплетням. Когда сенсаций не было, журналистам приходилось их выдумывать. Выдумывать сенсацию — не означает говорить, будто было то, чего не было. Просто можно преподнести как сенсацию простую вещь, сенсацией не являющуюся. Фразу, ляпнутую политиком в отпуске. Мелкие факты из жизни актеров. Сплетня, таким образом, становится материалом тотальной информации и распространяется в такие среды, которые прежде были наглухо отгорожены от репортеров. Сплетни начинают затрагивать частную жизнь царствующих особ, политических и религиозных знаменитостей, президентов, научных деятелей.
При подобной трансформации общественных нравов сплетня из шепота превращается в крик, достигая всех обсуждающих и даже всех обсуждаемых и даже тех, кому эта сплетня вообще неинтересна. Сплетня теряет все обаяние, всю силу секрета. Зато она создает новый образ обсуждаемой жертвы. Эта жертва новой формации совершенно не вызывает сочувствия. Она вызывает зависть. Ведь предметами массового обсуждения бывают только знаменитости. Значит, стать предметом сплетни (публичной) — это признак высокого общественного статуса.
Тут-то и совершился переход на следующий уровень утраты privacy. Телевидение стало делать передачи, где уже не терзатели позорили имена терзаемых, а сами терзаемые сладострастно позорили собственные имена, веря, будто получат за это такое же общественное признание, как известные актеры или политики. В эфире не злословят по адресу тех, кого в передаче нет. Оскверняемый сидит тут же вместе со всеми и сам оскверняет себя, демонстрирует свое грязное белье. Герои сплетни первыми узнают о наличии сплетни, а окружающие знают, что предметам сплетни все известно. Ни о ком не перешептываются за глаза, за спиной. Тайны нет. Невозможно ни поизмываться над обсуждаемыми (ибо они сами измываются над собой, выставляя напоказ свои слабости), ни посочувствовать жертвам — ведь жертвы заработали немалый профит от самобичевания, они заработали известность. Сплетня потеряла характер клапана для выпуска пара. Сплетня свелась к демонстрации малоинтересных фактов, и только.
Это началось еще до передачи «Большой брат», в которой многочисленные вуайеристы сутками разглядывают подопытных людей, расписавшихся в своей потребности срочно показаться психиатру. Это началось уже не менее двух десятков лет назад. Люди, о которых поначалу никто не тревожился и психически нестабильными их не считал, начали приходить в телестудии и ссориться с мужьями и женами из-за наставленных рогов, поливать грязью свекровей, умолять вернуться зазнобу и хлестать друг друга при всем народе по мордасам. Они доходили до развода, беззастенчиво обвитая супругов и женихов в импотенции. Если в прошедшие времена частная жизнь была до того тайной, что тайное тайных, по общему мнению, сообщалось одним лишь исповедникам, ныне «исповедниками» зовут телеведущих в передачах типа «Большой брат».
Но нет пределов худшему. Рядовые мужчины и рядовые женщины привыкли обнажать постыдные тайны интимной жизни, чтобы потешить публику и чтобы удовлетворить свой эксгибиционизм: следуя их примеру, на общее обозрение выставился и тот, кого в традиционных культурах именовали деревенским дурачком, а ныне, деликатнее и политкорректнее, я предлагаю назвать Деревенским Недоумком.
Деревенский Недоумок в былинные времена, будучи обделен матерью природой как физически, так и умственно, подвизался при местной рюмочной, где завсегдатаи его подпаивали и подстрекали на разные выходки, все сплошь непристойные и потешные. Предположительно, в этих ситуациях Деревенский Недоумок догадывался, что с ним обходятся как с недоумком, но принимал эту игру, ее условия. Он принимал их, потому что за это ему подносили выпить, и потому, что склонность к эксгибиционизму входила в набор качеств такого человека.