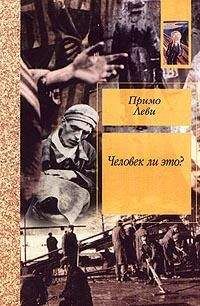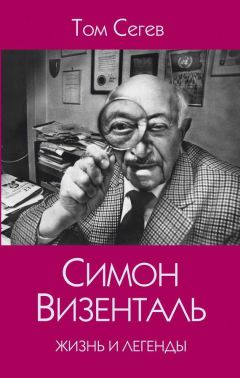Для меня совершенно очевидно, что в конечном счете концентрационный мир со всеми своими чудовищно жестокими и бессмысленными законами был ничем иным, как разновидностью немецкого милитаризма, его практической реализацией. Армия лагерных заключенных была бесславной копией немецкой армии, точнее сказать, ее карикатурой. Военные носят чистую, приличную форму со знаками отличия, хефтлинги — грязную, безликую и бесцветную, но и на той и на другой положено иметь пять пуговиц, иначе нарушителю установленного порядка несдобровать. Военные маршируют, ходят сомкнутым строем под звуки оркестра, потому и в лагере должен быть оркестр, и маршировать под него полагается по всем правилам искусства, с равнением налево, в сторону помоста, где стоит начальство. Этот церемониал считался настолько важным, что проводился даже вопреки антиеврейским законам Третьего рейха, с параноидальной настойчивостью запрещавшим еврейским оркестрам и еврейским музыкантам исполнять произведения композиторов-арийцев, потому что тем самым они могли их осквернить. Но в еврейском лагере музыкантов-арийцев не было, а у композиторов-евреев почти не было военных маршей, поэтому в нарушение всех законов расовой чистоты в Освенциме, единственном месте немецкой империи, музыканты-евреи не только могли, но и должны были исполнять арийскую музыку — если надо, закон можно и обойти.
Наследием казармы был также обряд «заправки постели». Само собой разумеется, что там, где вместо кроватей — нары с матрацем из спрессовавшихся опилок, двумя одеялами и одной волосяной подушкой, которую, как правило, делят двое спящих на таких нарах, понятие «заправка постели» может восприниматься исключительно как эвфемизм. Тем не менее, «постели» полагалось заправлять сразу же после подъема, одновременно во всем бараке; обитателям нижних ярусов приходилось застилать свои матрацы одеялами, просунувшись между ног обитателей верхних ярусов, старающихся удержать шаткое равновесие, балансируя на краю доски, и занятых той же процедурой. Все постели должны были быть приведены в порядок за минуту, максимум — за две, потому что сразу же после этого начиналась раздача хлеба. Это были минуты невообразимой спешки: в воздух поднималось столько пыли, что ничего не было видно, в нервозной обстановке раздавались ругательства на всех языках, потому что «заправка постели» (Betten- Ъаиеп — так это называлось) должна была выполняться неукоснительно, это был прямо-таки сакральный ритуал. Матрац, весь в подозрительных пятнах, провонявший плесенью, следовало взбить; для этой цели в чехле были проделаны две дырки, куда просовывались руки; одно одеяло нужно было подвернуть под матрац, а второе, аккуратно сложив, положить на подушку, создав как бы ступеньку. В конечном результате должен был получиться прямоугольный параллелепипед с ровными краями, над которым возвышался второй параллелепипед меньшего размера, образованный накрытой одеялом подушкой.
Для лагерных эсэсовцев, а значит, и для всех барачных старост, Bettenbauen считалось почему-то делом первостепенной важности; возможно, аккуратная постель была для них символом порядка и дисциплины. Кто плохо заправлял постель или забывал ее заправить, того жестоко и публично наказывали; кроме того, в каждом бараке имелась пара Bettnachzieher («дозаправщиков» — не думаю, что в нормальном немецком мог существовать такой термин и что Гете понял бы, что имеется в виду). В обязанности этих «дозаправщиков» входило проверить каждую постель, а потом подровнять все вдоль прохода. Для этого они вооружались бечевкой во всю длину барака, натягивали ее над заправленными постелями и по этой бечевке выравнивали малейшие, вплоть до сантиметра, отклонения в ту или иную сторону. Этот ритуал был не столько трудным, сколько абсурдным и гротескным: матрац, взбитый с такими усилиями, был настолько тонок, что вечером продавливался под тяжестью тел до дощатого настила, так что фактически мы спали на голых досках.
Если посмотреть на проблему шире, начинает казаться, что законы и принципы казармы должны были для всей нацистской Германии стать заменой традиционным нормам и «буржуазным» правилам хорошего тона. Нелепая жестокость муштры начала проникать в воспитательную сферу уже с 1934 года и была направлена на свой собственный народ. В газетах того времени, еще сохранявших определенную свободу в изложении и критике событий, сообщалось об изнурительных походах, в которые отправляли подростков, мальчиков и девочек, в рамках военной подготовки: до пятидесяти километров в день с тяжелыми рюкзаками за спиной и никакой пощады отстающим. Родителям и врачам, которые пытались протестовать, грозили политические санкции.
Совсем иная подоплека у татуировки — исключительно освенцимского изобретения. С начала 1942 года в самом Освенциме и в относящихся к нему лагерях (таких к 1944 году было сорок) личный номер заключенного не только нашивался на одежду, но и вытатуировывался на левой руке. Только немецкие подданные неевреи не подпадали под общее правило. Процедура выполнялась по быстрой методике специальными «писцами», которые фиксировали таким образом вновь прибывших со свободы, из других лагерей или из гетто. При особой любви немцев к любым видам классификации номер скоро приобрел свойства самого настоящего кода: мужчинам делали татуировку на внешней стороне руки, женщинам на внутренней; у цыган номеру предшествовала буква «Z», у евреев с мая 1944 года (то есть после массового наплыва венгерских евреев) перед номером стояла буква «А», вскоре ее заменили на «В». До сентября 1944 года в Освенциме не было детей: сразу же по прибытии их отправляли в газ. После сентября начали поступать поляки, арестованные в дни Варшавского восстания, причем целыми семьями. Им всем вытатуировывали номер, даже новорожденным.
Процедура не была особенно болезненной и длилась не больше минуты, но душу травмировала, потому что смысл ее был понятен каждому: этот нестираемый номер — знак того, что вам отсюда никогда не выйти. Так клеймят раба или скот, предназначенный для бойни, — вы и есть рабы и скот, у вас больше нет своих имен, номер — вот ваше новое имя. Татуировка была бессмысленной жестокостью, насилием ради насилия, чистым оскорблением: мало им было трех номеров, нашитых на штаны и куртки, зимнюю и летнюю? Мало: им нужен был еще один знак, еще одно напоминание, оставленное невинному на его плоти, — напоминание о том, что он приговорен. Кроме того, это был возврат к варварству, особенно мучительный для ортодоксальных евреев: ведь именно ради отличия евреев от «варваров» татуировка была запрещена Законом (Лев 19: 28).[51] юо Через сорок лет моя татуировка стала частью моего те ла. Я не горжусь ею и не стыжусь ее, не выставляю напоказ и не прячу. Неохотно показываю любопытным, а тем, кто не верит, — с гневом. Молодые часто спрашивают, почему я не сведу ее. Зачем? В мире нас, кто еще носит на своем теле это свидетельство, и так осталось мало.
Чтобы говорить о судьбе самых незащищенных, приходится совершать насилие над самим собой (полезное?). И снова я пытаюсь следовать не своей логике. Для ортодоксального нациста совершенно очевидно, ясно и понятно, что всех евреев надо убить. Это догма, аксиома. Детей, естественно, тоже, и особенно беременных женщин, дабы воспрепятствовать рождению будущих врагов. Но зачем во время своих безумных злодеяний, во всех городах и деревнях своей безграничной империи они взламывали двери в домах умирающих? Чтобы запихивать их в поезда и везти далеко, в Польшу, где после несусветного путешествия те умрут на пороге газовой камеры? В моем вагоне были две девяностолетние старухи, которых вытащили из больницы в Фоссоли. Одна умерла в дороге, на руках не способных помочь ей дочерей. Не проще и не «экономнее» ли было оставить умирающих умирать в собственной постели или убить их на месте вместо того, чтобы добавлять их агонию к общей агонии эшелона? Действительно, начинаешь думать, что в Третьем рейхе лучшим выбором, выбором, предписанным сверху, считался такой, который умножал скорбь, приносил наибольшие страдания, физические и нравственные. Враг должен был не просто умереть; он должен был умереть в мучениях.
О работе в лагере написано много, я тоже в свое время писал об этом. Труд неоплачиваемый, а значит, рабский, являлся первой из трех целей, которые ставила перед собой концентрационная система; две другие-устранение политических противников и истребление так называемых низших рас. Попутно заметим: коренное отличие советского концентрационного режима от нацистского заключалось в отсутствии у него третьей цели и в придании главного значения первой.
Нацистские лагеря возникли почти сразу же после захвата Гитлером власти, и тогда, в начале, работа была исключительно методом наказания, практически бесполезным, не v. бесполезная жестокость имевшим результата занятием. Посылая голодных людей на ioi торфоразработки или заставляя дробить камни, немцы преследовали лишь одну цель — подавление. В конечном счете, согласно нацистской и фашистской риторике, идущей в данном случае по стопам риторики буржуазной с ее постулатом «труд облагораживает», неблагородные противники режима не достойны труда, если понимать труд как полезное занятие. Их труд должен быть непрофессиональным, исключительно физическим, изнурительным, как у тягловых или вьючных животных: таскать, передвигать с места на место, носить на себе тяжести, согнувшись в три погибели. И это тоже бесполезная жестокость, хотя, впрочем, не совсем: ее польза в том, чтобы наказать за вчерашнее сопротивление и предотвратить сегодняшнее. Женщины Равенсбрюка рассказывали о нескончаемых днях во время карантина (перед тем, как их включали в бригады для работы на фабрике), которые они проводили, пересыпая песок в дюнах: стоя под палящим июльским солнцем в кружок, они перебрасывали песок друг дружке — из своей кучи в кучу соседке, а та своей соседке, и так до бесконечности, вернее до тех пор, пока песок не возвращался на первоначальное место.