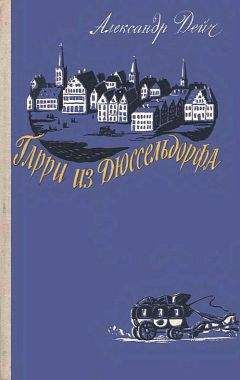Глава I
Она была мила, и он любил ее; но он не был мил, и она не любила его.
Старая пьеса.
Madame, знаете ли вы эту старую пьесу? Это совершенно необыкновенная пьеса, только слишком уж меланхолическая. Когда-то я играл в ней главную роль, и все дамы плакали, лишь одна-единственная не плакала, ни единой слезы не пролила она, и в этом именно и заключалась соль пьесы, настоящая катастрофа.
О, эта единственная слеза! До сих пор мучит она меня в моих воспоминаниях; сатана, когда желает погубить мою душу, напевает мне на ухо песню об этой непролитой слезе, ужасную песню с еще более ужасной мелодией — ах, только в аду можно слышать эту мелодию!..
….….….….….….….….….….
Как живут в раю, вы можете себе представить, madame, тем более что вы замужем. Там забавляются самым великолепным образом, там к услугам вашим всевозможные удовольствия, там живут среди сплошной радости и веселья, как господь бог во Франции. Едят с утра до вечера, и кухня не хуже, чем у Ягора*, жареные гуси летают с соусниками в клювах и чувствуют себя польщенными, если их скушают; лоснящиеся от масла торты растут на свободе, как подсолнухи, всюду ручьи бульона и шампанского, всюду деревья с развевающимися салфетками; там едят, вытирают рот и опять едят, не расстраивая себе желудка, поют псалмы, или забавляются и резвятся с прелестными, нежными ангелочками, или же ходят гулять по зеленому аллилуйному лугу; а широкие белые одежды сидят так удобно, и ничто не нарушает чувства блаженства — ни скорбь, ни дурное настроение; и даже если кто-нибудь наступит случайно другому на мозоль и воскликнет «excusez!»[22], то этот другой лишь улыбнется просветленно и скажет: «Поступь твоя не причиняет боли, брат мой, даже, au contraire[23], сердце мое исполняется еще большим небесным блаженством».
Но об аде, madame, вы не имеете никакого понятия. Из всех чертей знаком вам, может быть, самый мелкий, Вельзевульчик Амур, благовоспитанный крупье преисподней, а самую преисподнюю вы знаете только из «Дон-Жуана», и она вам еще кажется недостаточно жаркою для этого совратителя женщин, подающего столь дурной пример, хотя наши досточтимые театральные дирекции пускают при этих случаях в ход столько световых эффектов, огненного дождя, пороху и канифоли, сколько может пожелать для преисподней добрый христианин.
Между тем в аду гораздо хуже, чем полагают наши театральные директора, — иначе бы они не ставили столько скверных пьес; в аду адски жарко, и когда я однажды побывал в нем во время каникул, там было невыносимо. Вы не имеете никакого понятия об аде, madame. Мы получаем оттуда мало официальных сообщений. Что бедные души в преисподней целыми днями обязаны перечитывать все скверные проповеди, какие печатаются здесь, наверху, — это клевета. Так уж плохо дело в аду не обстоит, таких утонченных мук никогда не выдумать сатане. Но дантовское изображение ада, напротив, слишком мягко, в общем — чересчур поэтично. Ад показался мне какой-то большой мещанской кухней, с бесконечно длинной плитой, на которой установлены были в три ряда чугунные котлы, и в них сидели и жарились осужденные. В одном ряду сидели грешники-христиане, и — кто бы этому поверил! — число их было не так уж мало, и черти с особым усердием разводили под ними огонь. В другом ряду сидели евреи, беспрерывно кричавшие; черти время от времени дразнили их; и было особенно забавно, когда толстый ростовщик, отдуваясь, стал жаловаться на чрезмерную жару, а один из чертенят вылил ему на голову несколько ведер холодной воды, чтобы тот увидел, что крещение — благодать, истинно освежающая. В третьем ряду сидели язычники, которые, подобно евреям, не могут удостоиться блаженства и должны вечно гореть. Я слышал, как один из них, которому дюжий черт подложил новых угольев, закричал из глубины котла недовольным голосом: «Пощади меня, я был Сократ, мудрейший из смертных, я учил правде и справедливости и пожертвовал жизнью во имя добродетели!» Но глупый дюжий черт, не прерывая работы, проворчал: «Э, что там! Все язычники должны жариться, и для одного человека мы не станем делать исключения!» Уверяю вас, madame, жара была ужасающая, крики, вздохи, стоны, кваканье, хныканье, визги — и среди всех этих ужасных звуков ясно раздавалась роковая мелодия песни о непролитой слезе.
Она была мила, и он любил ее; но он не был мил, и она не любила его.
Старая пьеса.
Madame! Старая пьеса — трагедия, хотя героя в ней не убивают, и сам он себя не убивает. Глаза героини прекрасны, ах, так прекрасны, — madame, вы чувствуете запах фиалки? — так прекрасны и, однако, так остро отточены, что, подобно стеклянным кинжалам, вонзились мне в сердце и, конечно, прошли насквозь, и все же эти предательские убийственные глаза не умертвили меня. Голос героини также прекрасен, — madame, вы не слышали, как сейчас щелкнул соловей? — прекрасный, бархатный голос, сладостное сплетение самых солнечных тонов, и душа моя была им захвачена, она стала задыхаться и мучиться. Мне самому — с вами теперь говорит граф Гангский, и действие происходит в Венеции — мне в то время наскучили уже такие муки, и я подумывал положить конец игре еще в первом акте и выстрелом сорвать с себя дурацкий колпак вместе с головой, и отправился в галантерейный магазин на Via Burstah*, где на выставке увидел пару прекрасных пистолетов в ящике — я еще хорошо помню все это, — рядом было разложено много интересных игрушек из перламутра и золота, железные сердца на золотых цепочках, фарфоровые чашки с нежными надписями, табакерки с красивыми картинками, изображавшими, например, божественную историю о Сусанне, лебединую песнь Леды, похищение сабинянок, Лукрецию, толстую добродетельную особу с обнаженною грудью, куда она и вонзает слишком поздно кинжал, блаженной памяти Бетман*, la belle Ferronnière* [24] — сплошь соблазнительные лица, но я все-таки купил пистолеты, почти не торгуясь, потом купил пуль, потом пороху, потом отправился в погребок синьора Унбешейдена* и велел подать себе устриц и стакан рейнвейну.
Есть я не мог, а пить еще менее. Горячие слезы капали в стакан, а в стакане я видел милую родину, голубой священный Ганг, вечно светящиеся Гималаи, исполинские банановые леса, где по тенистым тропам, тянувшимся вдаль, спокойно шествовали умные слоны и пилигримы в белых одеждах, причудливо-мечтательные цветы глядели на меня, словно звали куда-то, золотые чудесные птицы щебетали в диком ликовании, мерцающие лучи солнца и бессмысленно-радостные голоса смеющихся обезьян нежно поддразнивали меня, из далеких пагод доносились молитвы жрецов, и среди этих звуков слышался жалобно-томный голос делийской султанши — в своих устланных коврами покоях бурно носилась она с одного конца в другой, разорвала свои серебряные покрывала, опрокинула наземь черную рабыню с павлиньим опахалом, плакала, шумела, кричала — но я не мог понять ее, погребок синьора Унбешейдена находился в трех тысячах милях от делийского гарема, к тому же прекрасная султанша умерла уже три тысячи лет тому назад, — и я жадно пил вино, светлое, радостное вино, и все-таки на душе моей становилось все темнее и печальнее — я был приговорен к смерти……..
……………………………………………..
Когда я поднялся по лестнице из погребка, то услыхал звуки заупокойного перезвона по случаю предстоявшей казни; человеческая толпа двигалась мимо меня; я же остановился на углу Strada San Giovanni* и произнес следующий монолог:
В старинных сказках — замки золотые,
Под звуки арф красавицы там пляшут,
Сверкают яркие одежды слуг,
Благоухают мирт, жасмин и розы,
Но стоит слово вымолвить одно, —
И вмиг исчезнет все великолепье,
Останутся развалины в пыли
И карканье болотных птиц в трясине.
Так я одним, всего одним лишь словом
Цветущий мир расколдовал в мгновенье,
И он безжизнен, холоден и вял,
Подобно телу мертвого владыки,
Чьи щеки покрывает слой румян
И в руки вложен скипетр величавый,
А губы вянут блеклой желтизной —
Забыли их, как щеки, нарумянить,
И мыши нагло возятся у носа,
Над скипетром владыки издеваясь.
Всюду вообще принято, madame, произносить монолог перед тем как застрелиться. Большинство пользуется при этом случае гамлетовским «быть или не быть». Это хороший монолог, и я бы тоже охотно процитировал его тут, но никто сам себе не враг, и если кто-нибудь, подобно мне, сам писал трагедии, где встречаются такие речи под занавес жизни, как, например, бессмертный «Альманзор», то весьма естественно, что своим собственным словам отдаешь предпочтение, хотя бы и перед шекспировскими. Во всяком случае, такие речи — обыкновение весьма полезное; благодаря им выигрывается по крайней мере время. — И вышло так, что я несколько задержался на углу Strada San Giovanni, и пока стоял там, обреченный, присужденный к смерти, я увидел внезапно ее!