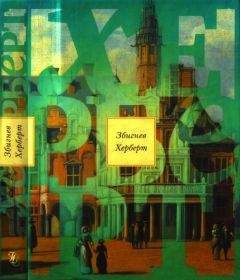Бессильное удивление является самой правильной позицией по отношению к жизни и посмертной судьбе ее создателя. С этим ничего не поделаешь. Я мог бы рассказать о многих событиях, ставших также и моим уделом с тех пор, как я решил заняться живописью. Внезапное нагромождение непреодолимых трудностей, таинственная пропажа заметок (как раз об этом речь), ошибочные сигналы и книги, которые выводили на неверный путь. Торрентиус отчаянно боролся с милостыней сердобольной памяти. «Натюрморт с удилами» имеет форму круга, слегка сплющенного на «полюсах», и производит впечатление незначительно вогнутого зеркала. Благодаря этой зеркальности предметы в нем приобретают характер усиленной, увеличенной реальности. Вырванные из окружения, смущающего их покой, они ведут жизнь величественную и своевольную. Наш привыкший к повседневности практичный глаз стирает контуры, он различает лишь смутные, спутанные полосы света. Живопись приглашает к внимательному созерцанию вещей, чем обычно пренебрегают, к нахождению их индивидуальных черт, избавлению от банальной случайности — и вот уже обычный бокал значит больше, чем он значит, он как бы становится суммой всех бокалов — эссенцией вида.
Торрентиус. Натюрморт с удилами.
Освещение в этой картине особенное — холодное, безжалостное, так сказать, больничное. Его источник находится вне изображаемой сцены. Узкий сноп света определяет фигуры с геометрической точностью, но не проникает в глубину останавливаясь перед гладкой, твердой как базальт, черной стеной фона.
С правой стороны картины — ее литературное описание напоминает трудоемкое перетаскивание тяжелой мебели, оно медленно развивается во времени, в то время как живописное впечатление возникает внезапно, словно пейзаж, увиденный в блеске молнии, — итак, с правой стороны виден глиняный кувшин, политый теплой коричневой глазурью, на которой остановился маленький кружок света. Посередине бокал, так называемый рёмер, из толстого стекла, до половины наполненный вином. И наконец, оловянный сосуд с энергично поднятым носиком. Эти три предмета, ставшие в ряд по стойке «смирно», лицом к зрителю, установлены на едва различимой полке, на которой лежат еще две трубки, обращенные чубуками вниз, и самая светлая часть картины — пылающий белизной лист бумаги с партитурой и текстом. А сверху тот предмет, значение которого я не сразу смог разгадать и который показался мне повешенной на стене частью старого оружия; при внимательном рассмотрении он оказался удилами с цепочкой, используемыми для укрощения особо норовистых лошадей. Это металлическая упряжь, лишенная конюшенной обыкновенности, выступающая из темного фона — иератическая{87}, грозная, зловещая, словно призрак Командора.
Великолепно обманчивый Торрентиус смеется над усилиями исследователей, желающих определить его ранг и место в истории искусства. Он не уместился в жизни, напрасно искать его имя в учебниках, где что-то следует из чего-то и все складывается в приятные узоры. В одном можно быть уверенным, что для своего поколения он был явлением исключительным, лишенным предшественников, конкурентов, учеников и последователей, был художником, взрывающим схематичное деление на школы и направления.
Наверное, поэтому его наградили не очень ясным титулом «мастера иллюзорного реализма». Что же это значит? Попросту передачу фигур людей, вещей, пейзажей такими, что они кажутся не только обманчиво похожими, но и тождественными с моделью. Рука инстинктивно протягивается, желая освободить из рамы уснувшее там существование. Старые мастера апеллировали не только к зрению — они пробуждали и иные органы чувств; вкус, обоняние, осязание, даже слух. Поэтому, общаясь с их картинами, мы физически ощущаем кислый вкус железа, холодную гладкость стекла, щекочущую поверхность персика и бархата, мягкое тепло глиняных кувшинов, сухой взгляд пророков, букет запахов старых книг, веяние надвигающейся бури.
Композиция произведения Торрентиуса проста, почти аскетична. Картина, построенная вдоль двух осей, горизонтальной и вертикальной, то есть в форме креста, может представлять благодатный материал для любителей формального анализа, их слегка школьных поисков — параллелей, диагоналей, квадратов, кругов и треугольников. Однако в данном случае такие процедуры представляются малоэффективными. С самого начала меня не покидало упорное впечатление, что в неподвижном мире этой картины происходит нечто гораздо более важное, нечто весьма существенное. Воображаемые предметы объединяются здесь в некие союзы, а вся композиция содержит в себе послание, быть может, даже заклинание, запечатленное буквами забытого языка.
«Натюрморт с удилами» для многих историков искусства является одной из ряда необычайно популярных аллегорий, а именно аллегорией тщеты — vanitas. Можно с этим согласиться, потому что кто же может осмелиться возражать Екклезиасту, утверждавшему, что все на свете суета сует. Однако это простое объяснение представляется поверхностным, слишком обобщающим. Как объяснить, например, небывало смелое, «сюрреалистическое» сопоставление трех сосудов — с удилами, грозно нависающих над ними? Ну и прежде всего: зачем на картине этот лист бумаги с нотами и текстом? Может быть, именно здесь следует искать скрытый смысл этого произведения?
Текст на голландском языке звучит так
Е R Wat buten maat bestaat
int onmaats qaat verghaat.
Сокращение E R в начале стихотворения может быть прочитано как Eques Rosa Crucis, что приводит нас на старый путь, то есть к предположению, что Торрентиус все же был розенкрейцером. По существу, однако, это никакое не доказательство. С таким же успехом художник мог написать эту картину по заказу одного их членов братства, выполняя его инструкции. Вероятно, в средневековье огромное количество алтарных композиций возникало в результате точных указаний теологов, которые диктовали создателям картин расположение сцен, символы, даже цвета. Сохранившиеся договоры с художниками убедительно об этом свидетельствуют.
Гномические стихи{88}, в особенности такие, о которых можно предположить, что они являются эзотерическими текстами, следует скорее объяснять, нежели переводить слово за словом. Иначе говоря, следует осторожно, на цыпочках приближаться к ним по ступеням значений, поскольку дословность может только исказить смысл и спугнуть тайну.
Вот как я понимаю текст, вписанный в картину Торрентиуса:
То, что находится вне меры (порядка),
В безмерности (беспорядке) отыщет злой конец.
Я отдаю себе отчет, что это лишь один из возможных вариантов перевода и что он звучит довольно банально в сравнении с оригиналом, который предлагает большую полноту мысли. Однако кажущаяся очевидность этого перевода не должна нас смущать. Всякий, кто соприкоснулся с мыслью пифагорейцев{89} или адептов неоплатонизма{90}, хорошо знает, какую большую роль играла в этих философских направлениях символика чисел, меры, поисков математической формулы, объединяющей человека и космос.
Мыслительная конструкция стиха основывается на антиномии гармонии и хаоса, то есть разумной формы и бесформенной материи, которая в космологиях множества религий была темным веществом, ожидающим, когда наступит божественный акт творения. В этических категориях натюрморт Торрентиуса, если мои предположения верны, вовсе не является аллегорией Vanitas, а аллегорией одной из основных добродетелей, называемой умеренностью, или Temperantia, Sophrosyne. Именно такую интерпретацию навязывают изображенные предметы: удила, ограничители страстей; сосуды, которые придают форму бесформенным жидкостям, а также бокал, наполненный лишь до половины, как бы напоминающий о похвальном обычае древних греков смешивать вино с водой.
Так что у меня были основания признать свое толкование картины Торрентиуса весьма правдоподобным. Разве не было оно ясным и логически последовательным? У него только один недостаток — именно его подозрительная простота.
Мне тогда не давало покоя стихотворение, вписанное в картину, которое обладало сжатостью надписи на камне, и завершенностью сакральной формулировки. Чтобы добраться до его философских истоков, я стал перелистывать трактаты эзотерических авторов, живших в одно время с художником, то есть прежде всего Иоганна Валентина Андреэ — «Fama fraternitatis»[35] и «Confessio»[36], составляющие основу для изучения доктрины братства; затем произведения английского врача Роберта Фладда{91}, весьма заслуженного в распространении идей розенкрейцеров; странные и трудные для понимания книги алхимика Студиона, который занимался поисками идеальной меры для Мистической Святыни, ну и конечно, произведения Якоба Бёме{92} и Теофраста Бомбастуса из Гогенгейма{93}.