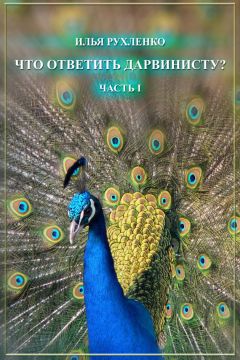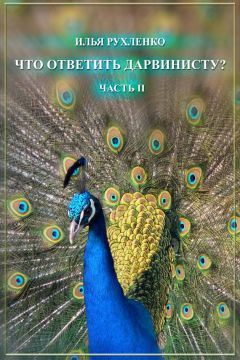Петрушка только молчал, кивая головой на всю несусветь, что нёс Фёдор Иваныч. Человек непростой, начитанный, с такими лучше язык откусить, чем в споры вступать. Сам же в дураках и останешься.
Любил и уважал Федор Иваныч Петрушку донельзя. "Вишь, какой человек, большую должность занимает, разодет, что твой… ризопрах (Федор Иваныч любил щеголеватые словечки, бог его знает, откуда и набирал), а дружбой с простым кочегаром (при этом он гордо смотрел в зеркало) не брезгует.
Случился как-то раз день рождения у Петрушки. Федор Иваныч ночь не спал, голову ломал, соображая, что бы подарить любимому другу. И посоветоваться не с кем — с женой он развелся, но об этом разговор особый. Встал поутру, побродил, и попалась ему ржавая водосточная труба. Возился он с ней целый день, наконец приладил три колена в виде буквы "П", очистил, отдраил и покрыл желтой масляной краской. Загляденье!
Потом пошел с праздничной физиономией в цирк и торжественно надел водосточную букву "П" на шею Петрушке. Застыло мрачное молчание. "Новый номер готовите"? — поинтересовался директор. — "Не-не-не знаю. А что это, Фёдор Иваныч"? — Это подарок ко дню рождения, Петруша. Магазины обходил, там так, ермолда одна. А это… полюбуйся. В цирке — может и не пригодится, хотя я думаю, такая вещь всюду место найдет, а в метро там или в церкви — первейший инструмент. "Это как понимать, Фёдор Иваныч"? — Ну, скажем, заходишь ты в метро — там битком набито — и кричишь: "Особый вход бакалавру! Тороплюсь на конференцию!" Ну собьешь трубой пару старух — их ведь там как килек в бочке — не ты, так кто другой. "Ну а в церкви"? — Тут дело особое, почет особый. Служба прерывается, священник возглашает: "Братие! Ныне к нам явился человек с трубой, человек эвхаристический! Во имя Господа, подайте ему от скудости вашей"! Ну и уйдешь из церкви с полным кульком продуктов. Циркачи смущенно переминались. — А помнишь, Фёдор Иваныч, я тебе свисток подарил, — робко напомнил Петрушка. "Как не помнить! Понимаете, товарищи циркачи, машинист наш чуть что любит храпока давать. До аварии раз десять не дошло. Однажды въехал на запасную станцию и трое суток продрых. Пассажиры уже решили: в укрытие, мол, поставили, война началась. Как я ему свистнул в ухо — пронзительный такой свисток, страсть, так он мигом в чувство пришел. За жабу решил ему отомстить". — За какую жабу?
"Надо вам сказать, ребята, человек я компанейский, дружелюбный. Это еще до Петрушки было. Прихожу раз на работу, ну там уголек разгребаю, смотрю, что-то шевелится возле топки. Может, думаю, саламандра ко мне пожаловала. Такое часто случается при нашей работе". — А что такое саламандра, Фёдор Иваныч? "Брема читать надо", — как всегда небрежно бросил начитанный Фёдор Иваныч. — "Так вот, она шевелится и похрипывает, я подумал нечисть какая, хотел лопатой огреть. А потом смотрю — жаба. И красавица какая — ну просто сил нет! Брыластая да бородавчатая, а глаза смотрят грустно-грустно — не обижай, мол, меня, я к тебе погреться пришла". — Так они в болоте живут, разве им холодно бывает? "Почитай Плиния Старшего, у него таких случаев много описано. Ах да, я и забыл, ты насчет книг того… чистая кувалда. Ну так вот. Погладил я жабу и назвал её ради красоты и особого величия "императором Клавдием". Но тут доходяга машинист ко мне прицепился с насмешками да прибаутками. Главное — видный был бы человек, а то ростом с мою жабу и весь в бородавках. Ну зачем машинисту бородавки, я вас спрашиваю? На такой вопрос и Платон не ответит. Чуть что, бежит по коридору и орет: полюбуйтесь, Фёдор Иваныч свою Клавку кормить пошел. Это я, значит, ставил Клавдию блюдце молока. "А как она в постели, — шутил помощник, — ничего, а"? "Из-за того и с женой развелся", — издевался машинист. И надо же! Недаром говорят, черт раз в тридцать лет слово правды сказывает".
— А что, — вмешался Петрушка, — хорошо ей было смотреть, как ты домой идешь с жабой на голове. Привычка у нее такая завелась: Фёдор Иваныч с работы, а она ему на шапку вспрыгнет и домой с ним возвращается. Первый раз жена хлоп в обморок. Потом ласково так к нему: ну чего тебе щенка не завести, тварь добрая, полезная, а то страхолюдь какую притащил. Сама ты страхолюдь, закричал Фёдор Иваныч, давай, заводи своих щенят да поросят!
"Нет, Петрушка, не совсем так оно было. Надо сказать, жена моя была белошвейкой и часто брала заказы на наряды для кукол. Ну это как кто соображает, а на мой взгляд, более коварных и злобных существ и на свете-то нет. Так и норовят какую-нибудь гадость сделать. Меня-то они избегали — лопаты моей боялись. А вот чтобы скинуть банку варенья на голову или обсыпать дустом, или иголку, в одно место воткнуть, или будильник под ухо на три утра завести — первейший народец. А так — тихони. Чинно сидят вокруг зеркала — наряды примеряют. Одна другую мазнет губной помадой или ущипнет — так это баловство. Кукла сидит против зеркала, глаза пялит, любуется, значит, собой. А жена тоже не дура, сядет рядом, и сама глаза пялит. Оторвать их от этого занятия — ни в жисть. Попроси жену в магазин сходить — будто и не слышит. Посидят часиков пять у зеркала и свалятся на пол. Продрыхнут еще часиков пять, усядутся и пойдет тарабарщина: лоскутки да ленты, нитки да иголки, вопли да визги".
— Постой, Фёдор Иваныч, ты ведь о куклах рассказываешь, то есть о тварях бессловесных. Как же они банки с вареньем скидывают, вопят да визжат? "Ах ты куриная твоя голова! Ты что ж, думаешь, одна только форма жизни существует? Вот шляется по свету цирковой парикмахер, сапогами гремит и на том промысел Божий и кончается? Да ты почитай хотя бы Фому Аквинского… А впрочем, ладно…"
— Да ты не возражай, Степан, — начал директор. — Помнишь, с соседней крыши голый пупсик свалился, мальчонку едва не пришиб? "Ну что ж, случай, и больше ничего".
"А у них голова трухой набита, — проворчал Фёдор Иваныч, — чуть в трухе дырка — случай, и больше ничего. Это как горбатый Леха на верблюде ездил. Какой еще верблюд? — возмущался он. Верблюдов в зоопарках содержат на государственный счет. А это кобыла и больше ничего. Так. На чем я остановился? Жена пыталась приучить кукол к своей еде. Конфеты им не давала — вредно, пирожным могут платье запачкать, зато кислой капусты, свеклы да редьки — здрасьте, пожалста. Представьте: нарядная, белая, румяная кукла, а вся рожа измазана свеклой. Уж я ей говорил: что ж ты барышень своих как чумичек кормишь? Отстань, говорит, от процесса усваивания витаминов. Я уже упоминал, злее существ, чем куклы, не найти. А лицемерки какие! Подсластятся к хозяйке за ее редьку, целуются, благодарят, а сами норовят булавкой побольней уколоть, белые туфли гуталином разукрасить или платье разрезать. Устроят какую-нибудь каверзу, рассядутся в кружок и давай рассуждать про женихов. И все в таком роде: один лысый да при одной ноге, у другого один глаз, зато стеклянный, третий похож на лотошника во фраке. Порядочно доставалось мужскому полу, да и женскому не сладко было. Только заметил я, что куклы стали по ночам в кружок собираться да шептаться втихомолку. Поначалу, как водится, про бархатцы да шелковинки, а потом, слушаю, другая тема у них наметилась: про суровые нитки, узелки да про гудрон. Задумали они сеть мастерить да карасей ловить — уж больно им приелись редька со свёклой. Жена возражала, спорила, да потом согласилась. Будет у меня трудовой коллектив кукол-рыбачек.
Только заметил я, товарищи, чем больше палец выпрямить хочешь, тем кривей он выходит. Собрался утром на работу, в доме необычная тишина, только в середине комнаты неподвижный тюк лежит, едва-едва вздрагивает. Потрогал — весь липкий, в гудроне. Я обомлел, остолбенел, а тут на меня орава кукол посыпалась. Марш на работу! Что это — закричал я. А будешь орать да скандалить, мы из тебя еще и не такого карася сварганим. Что с нами будет? Мы ведь мёртвые. Нас мастерят для утехи хорошеньких девочек, которых нам ох как приятно мучить. Я не слушал их белиберду, схватил инструменты, разрезал отверстие для рта — вроде дышит. Отвез ее в больницу. Врачи — в обморок. Никогда им не приходилось видеть столь тщательно, столь ажурно прошитую телесную ткань. Ну, а потом что было? Что было? Похоронили, вот и вся недолга.
— Терпеть не могу редьки да свеклы, — вздохнул Петрушка, — недавно, на моих глазах парнишка на свекле въехал под трамвай. А ну их к бесам, эти витамины!
"Если честно сказать, дела эти не разбери поймёшь и никто на свете их не разумеет. Это корневые слова, — значительно подняв палец, произнес цирковой кукловод. — Вот у меня кукла Светка уселась посеред мостовой и ревёт. А как туда попала — ни она, да и никто кругом не знает. Вот Фёдор Иваныч человек ученый, а наверняка и он жизни от смерти не отличит. Потому — величие премудрости. Корневые слова! Иногда кажется человек живой — а он мертвец мертвецом. Во время войны многое сказывали про всякие такие дела. Положишь куклу в ящик, а она — глядь — на заборе ногами дрыгает. Скажут, забыл. А если ты ее в муслиновое платье нарядил, а она на представление является в шелковом? Опять забыл. Что же получается? Вся жизнь из одних "забытьев" складывается? Или вот, задумал я на детском утреннике "Василия Тёркина" ставить. Всё хорошо, детвора собралась, кукол собрали, Тёркина нету. А как без него прикажете героя играть? Обыскались, залезли даже в дровяной склад. Нету Тёркина. Решили заменить спектакль, поставить "Сказку о рыбаке и рыбке", хотя ребятам она порядком надоела. Только я заныл: "Смилуйся, государыня рыбка", из глубин морских раздалось: "Поллитра кинешь, может, и смилуюсь". И выплывает Тёркин в тельняшке, напевает на гармони: "Одесса-мама, жемчужина у моря". Ребята веселятся, спектакль сорван".