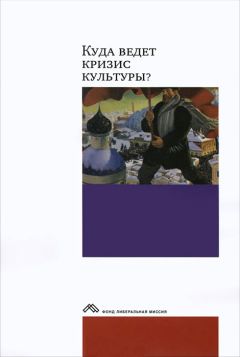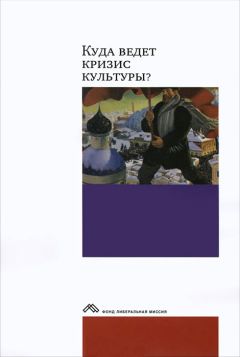Уже сейчас трудно не заметить, что морда усатого кучера роскошной Золушкиной кареты начинает приобретать зловещие крысиные черты, а в самой карете становится слишком много тыквенных семечек. Для умирающих империй крот истории роет в стахановском темпе. А как все это будет происходить, каков будет рисунок распада – не знает никто, да это и неважно.
Жизнь в историческом императиве окончилась для РС с поражением в холодной войне и завершением миссии глобального противостояния Западу. Дальнейшее диктуется имманентной диалектикой РС как таковой со всеми ее прихотливыми извивами и случайностями. Главное, однако, то, что, перефразируя известного киногероя, РС живет не «в клозетах, а в головах». Распад России сам по себе автоматически от этой наследственности их не очистит, но «всего лишь» даст еще один шанс, уже в гораздо более скромном геополитическом формате, перестроиться на личностно ориентированный путь, принципиально несовместимый с метастазами РС .
Если же для такой перестройки (не в горбачевском, разумеется, смысле) силенок не хватит, и РС и в этом формате [23] сумеет себя сохранить, тогда нас ждет «византийский» сценарий со всеми вытекающими из него печальными последствиями.
Игорь Клямкин:
Сейчас мы сможем задать Андрею Анатольевичу свои вопросы. Пользуясь правом ведущего, я сделаю это первым. У меня есть три вопроса.
Первый из них касается вашего тезиса, что в «Русской системе» источник порядка находится не внутри ментальности человека, а вне нее. Но в этом, как вы сами же отмечаете, ничего уникального нет, это свойственно всем архаичным культурам. Тем не менее «Русская система» выступает в докладе чуть ли не эталоном, в котором архаика представлена наиболее полным и концентрированным набором элементов, что и сообщает этой системе особое культурное качество. В такой характеристике мне не хватает конкретности. В чем все-таки отличие «Русской системы» и свойственной ей культуры от других архаичных систем и культур, например восточных?
Андрей Пелипенко:
Особенность «Русской системы» складывается из нескольких групп факторов, но выводится не из их механической суммы, а из их неповторимого синтеза. По отдельности же эти компоненты могут обнаруживаться в самых разных культурно-цивилизационных системах.
Первая группа факторов связана с этнокультурным субстратом – особенностями культурного импринтинга, усвоенного базовой этнокультурной общностью в момент кристаллизации коллективного ментального ядра и соответствующего набора программ, норм и ценностей. В России эта кристаллизация в основных чертах оформилась в ХIV–ХV веках.
Вторая группа факторов относится к социокультурному расколу, о котором я писал в докладе. Эта черта достаточно специфическая, чтобы раз и навсегда забыть о поверхностных аналогиях с восточными и иными культурами.
Третья группа факторов адресует к особенностям конкретного исторического опыта, специфичность которого очевидна. Он же, в свою очередь, детерминируется множеством естественных (ландшафт, климат) и привходящих исторических моментов, для описания которых потребовалось бы написать по меньшей мере книгу. Впрочем, я полагаю, что участникам семинара это и так хорошо известно.
Четвертая группа факторов связана с исторической ролью Руси/России/ СССР в общемировом контексте. Об этом я писал в моих статьях, и сейчас пересказывать все это было бы слишком громоздко.
В своем синтезе эти факторы и придают «Русской системе» совершенно уникальные черты, отличающие ее от многочисленных исторических аналогов.
Игорь Клямкин: Хотелось бы все же побольше узнать о самих этих «уникальных чертах», а не только о том, что их определяет. Второй мой вопрос – о смертном приговоре, вынесенном историей, как вы утверждаете, идее Должного, для «Русской системы» одной из базовых. В этом вы видите и важнейшее проявление кризиса данной системы, ведущего к смерти и ее саму. Но на ее месте, о чем тоже вскользь говорится в докладе, возникнет какое-то иное системное качество. Однако такие изменения, насколько могу судить, без идеи Должного, противостоящего исчерпавшему себя сущему, не возникают. Тем более что в вашем выступлении на первом семинаре среди возможных инструментов демонтажа «Русской системы» называлась и революция. Но революций, обходящихся без идеи Должного, уж точно не бывает. По крайней мере, не было до сих пор. Что же имеется в виду под «смертью Должного»?
Андрей Пелипенко:
Должное можно понимать в широком и узком смысле. В предельно широком понимании оно приравнивается к любого рода идеалам и нормам вообще. В таком понимании Должное, разумеется, не уничтожимо. Но если мы рассматриваем Должное в более узком историческом смысле, т.е. как рожденный логоцентрической культурной парадигмой метафизический Абсолют (а я в данном случае понимаю его именно так), то оно как ядерный смысловой комплекс всей логоцентрической системы сейчас переживает общий кризис.
Можно даже сказать, что как развивающееся явление Должное уже умерло. Это значит, что исторический прогресс, если о нем вообще можно говорить, не будет более вдохновляться финалистскими эсхатологическими проектами. Это значит, что средневековое по своему генезису Должное как идеал идеалов не будет более выполнять по отношению к человеку социально-патерналистские и репрессивные функции, выступая при этом для его души проводником в трансцендентное.
Архаические и древние общества жили без Должного. Там означенные функции выполняли мифоритуальные традиции. Современное стихийно постмодернистское, цифровое сознание выступает типологическим аналогом сознания мифоритуального и потому тоже отрицает Должное. Вернее, просто живет без него.
Игорь Клямкин: Но идея будущего, как понимаю, при этом не снимается?
Андрей Пелипенко:
Смерть Должного не снимает идею будущего. Просто она делает привычные для сознания модерна концепты будущего бессмысленными. Разумеется, искусственно отменить эти концепты нельзя. Но они перестают быть актуальными. Чрезвычайно показательно, кстати, что современное массовое сознание панически боится будущего. Эта бессознательная, часто безотчетная футурофобия – симптом распада глобальных проектов будущего, которые уходят вместе с логоцентризмом и презумпцией Должного.
Когда мы говорим о революциях, то надо иметь в виду, что все они происходили в зрелых логоцентрических культурах. Иные культуры, строго говоря, вообще никаких революций не знали. К примеру, революции XIX века неизменно вдохновлялись идеями социального преобразования во имя будущего. Традиционная религиозность к тому времени умерла, но святое место Должного осталось в качестве мощного полюса притяжения, генерирующего в массовом сознании светские концепты будущего в форме различного рода социальных утопий.
Эти утопии и стали последним историческим прибежищем Должного. Теперь же ему воплощаться не во что. Общества, оставшиеся в средневековой логоцентрической системе – например, исламские, – я не рассматриваю.
Вадим Межуев: Я относительно логоцентризма хотел бы уточнить…
Игорь Клямкин:
Сможете уточнить после того, как я задам свой третий вопрос и получу на него ответ.
Вы, Андрей Анатольевич, особенности «Русской системы» почему-то иллюстрируете, как правило, примерами из советской эпохи. Прежде всего, ее сталинского периода. Но просматриваются ли сквозь призму советского опыта все особенности российской культуры на всем протяжении ее существования?
Нелепо, пишете вы, оценивать деятельность товарища Сталина с точки зрения ее соответствия либо несоответствия закону. Но вот ведь даже Петр I считал, что действия царя как раз с точки зрения соблюдения им закона и надо оценивать. Потому что, полагал он, если царь не будет придерживаться закона, то кто же станет его соблюдать?
Или, скажем, Николай I – правитель, как известно, тоже не из числа либеральных. И он тем не менее намекал маркизу де Кюстину, что с удовольствием отобрал бы у поляков конституцию, дарованную им Александром I, еще до их восстания в 1830 году, да не мог, потому что не хотел попирать закон. И еще много примеров можно привести, показывающих, что политическая культура товарища Сталина не идентична полностью политической культуре досоветской России. Насколько корректна универсализация вами советского опыта при описании особенностей русской культуры?
Андрей Пелипенко: Я брал примеры из эпохи сталинизма просто потому, что они наиболее характерны и типичны, можно сказать, почти гротескны. Однако мое утверждение насчет невозможности соотносить монаршую волю с законом и правом в той или иной степени оправданно по отношению почти ко всем российским самодержцам независимо от того, что они сами по этому поводу говорили. И к Петру, который, кстати сказать, полагал, что идея общественного блага воплощается в его собственной персоне, это относится не в меньшей степени, чем к Сталину. То же можно сказать о Екатерине II, Николае I и других. Даже самых кротких и законо-любивых российских правителей крайне трудно представить на месте Фридриха II в известной полуанекдотической истории про мельника и поддержавших его в тяжбе с королем судей, которые, как оказалось, в Пруссии еще есть…