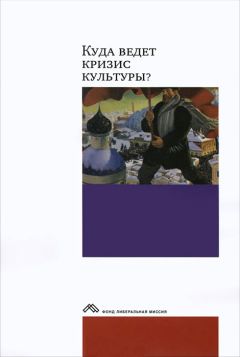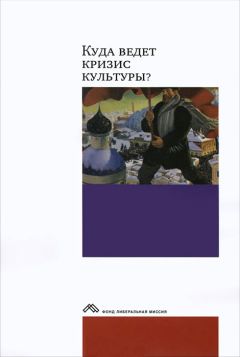Игорь Клямкин: Я хотел только сказать, что отдельным российским самодержцам, в отличие от товарища Сталина, приходило в голову соизмерять свои действия с законом…
Андрей Пелипенко: Приходило, но не более того.
Игорь Клямкин:
Бывало, что и соизмеряли. Но «осовечивание» российской культуры проявилось, мне кажется, у вас и в том статусе, который вы от ее имени предписываете вопросу «кто?». То есть вопросу о том, кто сменит действующего правителя, кто окажется на троне после него. Но в самодержавном государстве традиционного монархического типа никакого особого культурного статуса у этого вопроса не существовало. Показательно, что в русских пословицах и поговорках имена царей отсутствуют. Есть царь вообще, есть идея царя, а конкретных царей нет.
А вот в советскую эпоху (точнее, в послесталинские времена) вопрос «кто будет?» и в самом деле стал беспокоить массовое сознание. И в постсоветские времена беспокоит тоже. Короче говоря, описанный вами феномен, проявляющийся в циклической смене «светлых надежд» на нового правителя его «инверсионным поношением», стал, по-моему, культурной реальностью только со второй половины ХХ века. Или я не прав?
Андрей Пелипенко:
При погружении в детали можно согласиться с вами в том, что есть некоторая разница между тем, как это выглядело в досоветской России и в СССР. Так, как показано в докладе, вопрос «кто?» имеет, конечно, отношение прежде всего к советской реальности. Но ведь дело не сводится к имени и фамилии сакральной персоны.
Ответ на вопрос «кто?» – это некая сакральная расшифровка
сущности персоны. Этот вопрос задавался в соответствующей лексике и в XVII, и в XVIII веках. И касался он не имени и фамилии. Он касался того,
что это за человек, в чем состоит его сущность, насколько он соответствует тому самому сакральному Должному и никогда ясно не артикулируемому представлению о репрезентации идеи
правильного царя. Соответствует или не соответствует – вот тяжкий и мучительный экзистенциальный вопрос, раскрывающий подлинный смысл вопроса «кто?».
Игорь Клямкин:
Спасибо, Андрей Анатольевич, за обстоятельные ответы. Не могу, однако, еще раз не заметить, что относительно вашего понимания специфики «Русской системы» у меня остались неясности. Отвечая на мой первый вопрос, вы говорили, в основном, о факторах, предопределивших особенности «Русской системы», а не о самих этих отличительных особенностях. Среди таковых вы назвали только социокультурный раскол. Возможно, эта тема еще всплывет в ходе дискуссии, а вы, завершая ее, тоже захотите к ней вернуться.
А теперь послушаем вопрос Вадима Межуева. Ему что-то неясно насчет логоцентризма. Пожалуйста, Вадим Михайлович.
Вадим Межуев: У меня один только вопрос. Если вы считаете, что кризис культуры – это кризис логоцентризма, то при чем тут Россия? О каком логоцентризме может в ней идти речь? В стране, которую, по признанию ее поэтов, умом не понять, где от ума только горе?
Андрей Пелипенко: Достаточно знать определение логоцентризма, чтобы…
Вадим Межуев: Я понимаю логоцентризм как культ разума, как идущую от греков традицию рационализма, ставшую в эпоху Просвещения преимущественным способом объяснения мира. Или так: логоцентризм – это смена мифопоэтической и теологической картины мира на научную. Соответственно, кризис логоцентризма – это кризис просветительской веры в могущество разума. Но какое отношение все это имеет к России, в культуре которой разум (логос) никогда не занимал главенствующего места? Или под логосом вы понимаете не разум или ум, а что-то совсем другое, например слово?
Андрей Пелипенко:
Да, слово, но не в лингвистическом его понимании и не в богословском. А логоцентризм – это универсальная макропарадигма культуры, которая когда-то охватила гигантский ареал цивилизаций, прежде всего осевых. В общем виде я представил свое понимание данного термина на предыдущем семинаре. Думаю, для первичной ознакомительной презентации этого вполне достаточно.
Что же касается логоцентризма в России… Если не ошибаюсь, кажется Сеченов, когда его попросили коротко охарактеризовать сущность русского сознания, ответил: «Когда горит дом, русский не пошевелится, пока кто-то не крикнет: „Пожар!“». Вот это и есть русский логоцентризм. Это значит, что в России верят слову, понимают и слышат только слово. Именно слово является здесь запускающей силой любого рода социально значимого действия.
Вадим Межуев: Но в таком случае логоцентризм присущ даже первобытным народам, отождествлявшим слово с обозначаемым им предметом…
Андрей Пелипенко:
Устремленность к логоцентризму действительно прослеживается с верхнего палеолита. Но это только тенденция. Логоцентризм в самоадекватном смысле мог развиться только в письменных культурах. И то не сразу.
Во всей полноте своих культургенетических качеств логоцентризм появляется в осевую эпоху. До этого источником реальности для человека была все-таки природа, т.е. естественный мир, пропущенный через миф, ритуалы и традиции. Но еще не слово, которое оставалось лишь инструментом, медиатором, хотя бы и сколь угодно важным. Отождествление же слова и вещи в первобытности свидетельствует не о логоцентризме, а о синкретизме архаического сознания.
Вадим Межуев: Тогда в каком смысле вы употребляете понятие «осевая эпоха»?
Игорь Клямкин: Господа, я вынужден остановить вашу увлекательную беседу. Она чем дальше, тем больше уводит нас от темы обсуждения. О логоцентризме в докладе Андрея Анатольевича упоминается вскользь и без прямой связи с особенностями «Русской системы». Это то, что роднит ее с другими культурными системами, а не то, что призвано выявить ее своеобразие. Так что давайте этот разговор отложим. Есть еще желающие о чем-то расспросить докладчика?
Эмиль Паин:
У меня тоже вопросы на понимание. Их четыре.
Во-первых, кто субъект «Русской системы», кто этот «безответственный, ленивый, с рабской психологией, для которого свобода оборачивается хаосом»? Кто носитель таких ментальных черт? Вариаты ответа: а) все население страны; б) какая-то одна этническая группа или отдельные социальные слои.
Во-вторых, как обеспечивается устойчивость описанной вами ментальной составляющей «Русской системы»? Это врожденное свойство или трансляция по каналам социализации? Или это воспроизводство как условный рефлекс? Может быть, сохраняются некие неизменные условия, воспроизводящие некие неизменные свойства?
В-третьих, какова мера самой этой устойчивости отмеченных «особых» свойств? Они воспроизводятся полностью или частично? Иными словами, «Русская система» в ее нынешнем виде полностью воспроизводит исходный образец или имеет лишь отдаленное сходство с ним?
И, наконец, в-четвертых, насколько описанные ментальные черты «Русской системы» поддаются целенаправленным изменениям?
Андрей Пелипенко: Субъект «Русской системы» определяется не этничностью, а ментальностью…
Эмиль Паин: Иначе говоря, им могут быть и русские, и чеченцы, и татары?
Андрей Пелипенко: Субъектом «Русской системы» может быть даже негр.
Эмиль Паин: Негр в России или негр в Нигерии?
Андрей Пелипенко:
Скажем, негр в российских условиях. А вообще-то я не намерен подставляться под навешивание ярлыка культурного расиста. Еще раз подчеркну: когда я говорю о субъекте «Русской системы», я имею в виду ментальность, а не этничность. Им является носитель русского традиционного сознания независимо от его этнической принадлежности. А соотнесение такого ядерного носителя этой ментальности с теми или иными этническими группами в сферу моих научных интересов не входит.
Что касается каналов трансляции ментальных программ, то на этот ваш вопрос исчерпывающий ответ я дать не могу. Потому что помимо тех каналов трансляции культурных и ментальных традиций, которые мы знаем и которые нам даны в рациональном анализе, существуют какие-то иные каналы. И о них мы доказательно ничего не можем сказать. Мы можем лишь по косвенным признакам нащупать нечто вроде генома культуры.
Генетика с человеческой наследственностью разобралась, но существует еще какая-то культурная генетика. Какие-то устойчивые паттерны. Есть некие предзаданные ментальные конфигурации, которые средой (в данном случае, историческим опытом) лишь корректируются, но не изменяются по существу.
Далее, вы спрашиваете, меняется ли «Русская система» в ходе истории. Разумеется, меняется, и этот аспект очень важен. Я его в докладе не касался, сосредоточив внимание лишь на выявлении некоторых устойчивых черт системы. Если бы я ставил перед собой задачу описать ее в динамике, то показал бы, как она зарождалась во времена Андрея Боголюбского, как выглядела в исполнении ранних московских князей, а потом Ивана Грозного. Я показал бы, как она менялась после Смуты, что привнес в нее Петр I и т.д. Но при всем разнообразии своих конкретных воплощений «Русская система» оставалась «Русской системой».