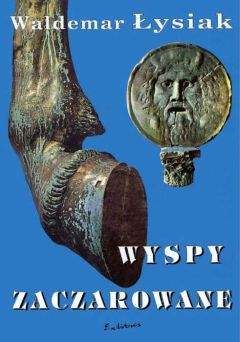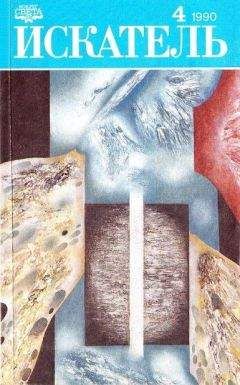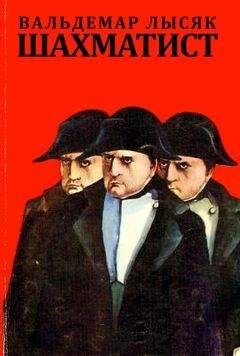— Бертье!!! Что делают в твоем штабе подобные сволочи, как этот вот, когда на полях гремят пушки?!
Уже через несколько дней Канувилль мог наслаждаться грохотом пушек (причем, с близкого расстояния) по другой стороне Пиринеев. В ту же самую Испанию был сослан и другой «маменькин сынок Бертье», капитан драгун, де Септейль. В битве под Фуэнтес снаряд оторвал ему ногу. Узнав об этом, герцогиня вздохнула: «Ужасно, вновь на одного танцора меньше». В ту же Испанию Наполеон сослал и ее управляющего (салоны называли его «постельным управляющим»), Форбина, и многих других дамских угодников. Но это сражение с ветряными мельницами завершилось еще одним Ватерлоо.
В течение 1810–1814 годов между родственниками шла война, ибо Полина осмелилась публично оскорбить императрицу Марию Людовику, в результате чего ей был запрещен доступ ко двору. Своей женской интуицией Полина почувствовала, что австриячка — это не имеющий своего характера манекен, настолько же подлый, сколько еще и глупый. До Наполеона это дошло только тогда, когда вторая жена бросила его в несчастье. Впрочем, а кто тогда его не бросил, начиная с его маршалов и заканчивая мамелюком Рустамом? Все — только не Полина. За несколько дней до битвы под Лейпцигом (1813 год) она отдала брату триста тысяч франков и свои наиболее ценные украшения (точно так же она поступила и перед Ватерлоо), когда же Наполеона держали в плену на Эльбе, она прибыла туда, чтобы делить с ним одиночество.
После триумфального возвращения с Эльбы в Париж, Наполеон обнаружил в бумагах придворных писак Людовика XVIII описание романса между собой и… собственной сестрой. Эта грязная история была снабжена штампом «6 печать», поскольку все выдумки пасквилянтов (одна из крупнейших каналий того времени, уже упомянутый Льюис Голдсмит, среди всего прочего, обвинил Наполеона в… содомии!) фабриковались с единственной целью: уничтожить рождающуюся тогда и все более укрепляющуюся наполеоновскую легенду. Необходимо было в обязательном порядке оплевать и обгадить императора, чтобы имя его переставало электризовать народы, словно имя святого.
Полина — герцогиня Боргезе
На Святую Елену Полине выехать не разрешили. Последние годы жизни она провела в Италии, оплакивая смерть любимого брата. Умерла она в Вилла Строцци, под Флоренцией, в возрасте сорока пяти лет (9 июня 1825 года), от рака. У ложа ее смерти находились всего лишь: единственный из ее братьев (Иероним) и супруг-герцог, с которым она помирилась после длительного периода раздельной жизни, и которому она перед смертью солгала, в благодарность за вечную терпимость и доброту: «Никого я не любила, кроме тебя!» Через минуту она попросила дать ей зеркало, долго гляделась в него и прошептала: «Когда я умру, заслоните мне лицо и, умоляю, не проводите вскрытия могилы».
Этой ее последней воли исполнить не удалось — каждый день толпы людей видят ее лицо и ее анатомию в Вилле Боргезе. Полина, в виде Венеры Победной, лежит, опирая голову на правую руку, держа яблоко в левой ладони, полунагая, наполненная прелестью. В ее лице резец художника на веки зачаровал красоту, в ее глазах — космос посвящения в мистерии любви, в ее изогнувшемся теле — лень насыщения, а в ее яблоке — похоть (в древние времена и в соответствии с греческой мифологией, яблоко представляло собой символ похоти, и оно же было «медалью» для победивших красоток). Здесь имеется и то самое «физическое совершенство» Арно, и «деликатная кокетливость», о которой упоминал Вийемарест. Детали: ложе, постельное белье, орнаменты, подушки и модная прическа — принадлежат исключительно эпохе ампира, благодаря чему, реальность и античный идеал переходят один в другой. Создаваемая в течение пары лет (1805–1808) скульптура была настолько удачной, что пятидесятилетний Канова, который во время работы влюбился в модель, после завершения работы признался, что боится влюбиться в собственном произведении.
В отличие от красивых женщин, некрасивые стыдятся собственной наготы, и потому закрытый купальник никогда не будет рожден скромностью, но всегда из осознания собственного недостатка или же из старости, которая редко когда бывает привлекательной. Когда одна из придворных дам, фыркавших при виде скульптуры, спросила у Полины: «Как же вы могли позировать обнаженной?!», та только пожала плечами: «Так ведь в мастерской было тепло».
«…и тогда приходят критики и философы, чтобы объяснить послание художника. Наибольшим врагом искусства является общественное мнение, в любом из своих многочисленных проявлений».
Герберт Рид «Искусство и человек».
«До меня дошло, что на эту белую плоскость сотни тысяч лет глядели одни только звезды… Что делаю здесь я, живой, сред этого безупречного мрамора? Я, подлегающий уничтожению, я, чье тело сгниет, что делаю я здесь, в стране вечности?»
Антуан де Сент-Экзюпери «Земля людей».
Моя встреча с Кановой — это встреча с Неоклассицизмом, стилем (или, скорее, направлением мышления и проникновения этой мысли в произведения искусства), по-видимому, наиболее спорным из всех, созданных нашей цивилизацией до средины XIX века. Чувствуя восхищение к его плодам, и перекормленный книгами, наполненными язвительными мнениями, этим надуванием губ критиков — я разыскивал его на этой земле. Я разыскивал его источники, восстания, любовь и страдания, которые его породили.
Неоклассицизм был революцией. Он нанес удар «fêtes galantes» и «fêtes champetres» рококо, то есть, придворным и «пастушеским» сценам флирта, равно как в постелях будуаров, так и на лоне природы, истекающим гедонизмом и развратом. Он снес засахаренные до несварения желудка «esprit» и «charme»[37] рококо и возвел плотину перед неустанным балом золотой аристократической молодежи, развалившейся на холстах словно боги и богини. Этот удар, который был нокаутом для пропитанного духами будуара, терроризирующего искусство, нанесли абсолютно независимо друг от друга три титана, в одно и то же самое время, в течение всего лишь шести лет, с 1783 по 1789 год. Давид написал «Клятву Горациев», Леду спроектировал знаменитые парижские рогатки, а Канова выполнил модель надгробного памятника для папы Клеменса XIV. Эти три шедевра, свободных от всклокоченных драпри и избытка украшений, демонстрировали спартанскую простоту и благородный монументализм. Это было началом — европейское искусство еще раз преклонило голову перед Древностью.
Сами они называли свое творчество «правдивым, истинным стилем». Название «неоклассицизм» было изобретено (в качестве уничижительного термина) через много лет, в средине XIX века, критиками искусства и «учеными мужами», для которых воскрешение античности означало плагиат, наполненный безличным холодом и художественной мертвенностью. Это они прозвали парк шедевров Кановы «эротической мерзлотой». Они не полюбили эти мраморные статуи, я же дрожу от восхищения, когда их вижу. Возможно, правы именно они, а я — нет, но мы стоим на противоположных полюсах в святилище поглощения искусства — так какой мы можем вести диалог?
Томами своих ученых размышлений они привили эту ненависть и презрение целым поколениям, это они убедили их, будто бы Полина в Вилле Боргезе — это мраморная глыба льда. Герой романа Алехо Карпентьера «Царство земное», чернокожий Солиман, который на Сан Доминго был массажистом Паулетты, значительно позднее находясь в Риме, ночью посещает одну из горничных Дворца Боргезе и находит там мраморное изображение своей бывшей госпожи:
«В глубине небольшого кабинета была одна только статуя. Статуя совершенно нагой женщины, которая покоилась на ложе, держа в руке яблоко и словно протягивая его кому-то. Пытаясь совладать с хмелем, Солиман неверными шагами побрел к статуе, от изумления сознание его, помутненное винными парами, несколько прояснилось. Это лицо было ему знакомо, и тело, тело тоже напоминало ему о чем-то. В тревоге он стал ощупывать мрамор, словно вглядываясь, внюхиваясь в его поверхность осязающими кончиками пальцев. Потрогал груди, обхватив их снизу ладонями. Провел рукою по животу, задержав мизинец во впадине пупка. Погладил мягкий изгиб спины, словно собираясь перевернуть изваяние на другой бок. Пальцы его искали округлость бедер, мягкость подколенной впадины, упругость груди. И движения его рук разбудили память, вызвали образ давно минувших лет. Он не в первый раз касался этого тела. Он уже растирал эту щиколотку, таким же точно круговым движением унимая боль от растяжения связок. Тогда под пальцами у него была плоть, сейчас камень, но очертания были те же. Теперь ему вспомнились полные страха ночи на острове Ла-Тортю, когда за запертыми дверьми предсмертным хрипом хрипел французский генерал. Вспомнилась та, которой он должен был почесывать голову, убаюкивая ее. И внезапно, повинуясь властному зову чувственной памяти, Солиман стал массировать каменное тело, проводя ладонью по мышцам, по сухожилиям, растирая спину от хребта к бокам, пробуя большим пальцем упругость груди, выстукивая мрамор костяшками пальцев. Но холод камня передавался коже рук, и негр вдруг замер, ощутив, что запястья его цепенеют, словно их зажала в тиски смерть, и он закричал. Вино снова ударило ему в голову. Статуя, желтоватая в свете фонаря, была мертвым телом, перед ним был труп Полины Бонапарт. Труп, только что остывший, только что утративший трепет и зрение, может быть, еще возможно вернуть его к жизни. Негр кричал, кричал во всю мощь своего голоса, словно грудь его разрывалась, и отчаянные крики гулко отдавались по всем обширным покоям виллы Боргезе. И таким дикарским стало его лицо, так загрохотали по полу каблуки, превращая в барабан перекрытие меж кабинетом и находившейся под ним часовней, что пьемонтка в страхе скатилась вниз по лестнице, оставя Солимана наедине с Венерой Кановы».[38]