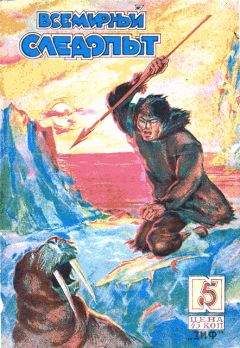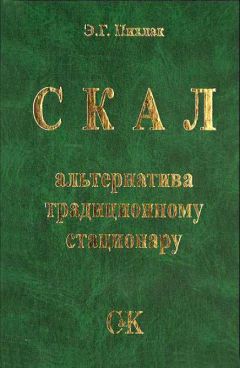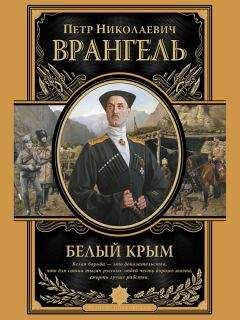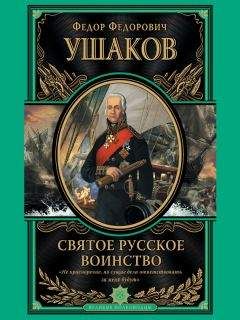— Чорт бы побрал всех этих оракулов-предсказывателей! — ворчал я, шагая за дрожками, которые еле тащила по размякшему чернозему лошаденка. — Хотя бы до Липецка удалось добраться и там бы переждать водополье…
Но неудачи редко выступают по одиночке.
В сельсовете маленькой деревушки, раскинувшей свои избы по песчаным буграм левого берега реки Воронежа, меня предупредили:
— Переправы нет. Лед поводит, а у берегов закрайки.
Так по милости распутицы я сделался пленником Желтых Песков — название приютившей меня деревни. Поселиться пришлось у некоего Федора Ивановича, в его хате семь на восемь, с пятью поросятами, теленком, овцой, котом, хозяйкой и двумя карапузами. Эта разношерстная и разноголосая компания вела себя крайне шумно с самого рассвета, и я спасался на реке, где часами без всякой помехи пил воздух весны, сначала под гул льдин, сталкивающихся друг с другом и карабкающихся на берег, а потом под плеск волн широкого разлива и крик чаек и нырков.
Выхухоль.
Вечерами Федор Иванович, утихомирив ребят, раскладывал на столе старую карту и начинал расспрашивать меня о неведомых ему краях и странах; о том, как проехать на Байкал, в Крым, на золотые прииски, или о том, как ему лучше построить свое хозяйство. При этом он всегда говорил, что хочет сделать коммуну, и, кивая на портрет Ильича в красном углу, добавлял:
— Да что, брат, хочу вот к его заместителю писать, чтобы помогли нам машинами и тракторами. Без них трудно колхоз строить!
На четвертый день моего заключения в Желтых Песках, вечером, когда я под визг поросят под печкой рассказывал хозяину о Турксибе, в хату вошел старик с мальчуганом. Старика я уже знал — это был Евстигней, первый рыбак округи. Старик молча сунул нам руку, уселся на лавку у печи и, достав кисет, стал скручивать «козью ножку».
Минуты две прошло в полном молчании — слышно было даже, как среди украшавших стену старых открыток и мыльных оберток шуршали черные тараканы. Федор Иванович сосредоточенно разглядывал карту, уперев, пальцем в Балхаш. Нарушил молчание Евстигней. Он закурил, пустил к потолку клуб дыма и угрюмо сказал:
— А знаешь, Хведор, длинноносов обратно (опять) принесло на Илькину косу, И мно-о-о-го!
Я удивленно повернулся к Федору Ивановичу.
— Что это за штука такая?
Он нехотя оторвался от карты.
— Так… Длинноносы — длинноносы и есть. Хахулями их еще называют. Хошь, плыви завтра на зорьке с Евстигнеем на Илькину — сам увидишь, что за штука длиннонос.
* * *
На рассвете, по звенящему ледку, затянувшему рытвины, отправились к реке. Долбленка Евстигнея, серебряная от осевшего за ночь инея, лежала на берегу смоленым пузом вверх. Мы перевернули ее, стащили на воду и тихо поплыли вниз по течению.
Поднялось солнце. Высоко-высоко над нами пролетела стайка чернета, характерно свистя крыльями: «сви-сви-сви-сви-сви…» Широкий разлив разостлался кругом. Могучий, спокойный, но в то же время холодный и какой-то угрюмый, он напомнил мне стально-голубое лицо Байкала…
Евстигней тихо толкнул меня веслом: «Смотрите!» Я быстро повернулся в ту сторону, куда он указывал рукой.
Метрах в ста от нас, на желто-сером фоне узкой песчаной косы чернело несколько неподвижных точек…
«Замерзли, бедняжки, — подумал я. — Сидят, не шелохнутся длинноносые вестники весны. Куличишки это, вероятно. Интересно, какой породы. Ну, ладно: взлетят — видно будет».
Долбленка, подгоняемая сильными ударами весла, быстро приближалась к Илькиной косе… Черные комочки вдруг зашевелились. Один стремительно прыгнул в воду и скрылся, а три других, распустив длинные плоские хвосты, заковыляли вдоль берега.
— Чорт возьми! — расхохотался я. — Вот так птички! Да это же великолепный выхухоль!
Евстигней круто повернул долбленку носом в берег. Зазвенел лед, лодка, шурша, выползла на песок.
— Имай, Александрыч! Они криволапые, по суше бегать не могут! — крикнул рыбак.
Я выскочил из лодки и в несколько прыжков догнал ковылявших длинноносов. Двух откинул ногой подальше от воды, а третьего схватил за шею. Схватил — и сейчас же раскаялся. Резкая боль в пальце заставила меня тряхнуть рукой. Зверек выскользнул, отлетел в сторону и шлепнулся на лед. Тонкая заберега проломилась, и река мгновенно поглотила длиноноса. Я не рассчитал, что рот зверька с острыми зубами находится почти что на самой шее!..
Я выскочил из лодки и догнал ковыляющих длинноносов.
Пока я приходил в себя от постигшей неудачи, Евстигней догнал одного из длинноносов на берегу и ударом весла прикончил его. Общими усилиями мы перевязали мой пораненный палец и, усевшись на борт долбленки, стали разглядывать убитую выхухоль. Зверек, величиной с добрую крысу, был покрыт густым буро-коричневым мехом. Хвост, длинный и плоский, оказался совершенно лишенным волоса.
— Это у него кормовое весло, — объяснил Евстигней. — А лапы, лапы!.. Посмотри сам, Александрыч, — чисто весла для греба!
Широкие, направленные назад и вбок, лапки зверька действительно напоминали весла. Не менее интересной была и голова выхухоля. Глаза и уши спрятаны в меху, а нос, вытянутый трубочкой, занимал по крайней мере половину общей длины головы. Рассматривая зверька, я понял, почему местные жители окрестили его птичьим, куличьим именем «длиннонос».
* * *
Евстигней вытащил долбленку подальше на берег, и мы снова уселись на борт, молча попыхивая цыгарками.
— Александрыч, хошь, расскажу тебе про хахуль длинноносную? — заговорил наконец рыбак.
Я утвердительно кивнул головой.
— Так вот, слушай, милай! Живут они, эти твари диковинные, в пойме, по старицам[22]. Роют норы в берегах с выходом в воду, — в воде как рачьи норы… По дну старицы к норе дорожки-бороздки проделывают. На рыбалке не раз разрывали мы ихние гнезда и находили там траву сухую, как у мышей, и еще об'едки разные — корешки, чешую рыбью. Молодь хахули-матки выводят и весной, и летом, и осенью; до четырех штук водит одна матка. Лет сорок назад у нас в поймах было много длинноносов. Как лягуши кишели, и никто их не трогал. Потом купцы покупать шкурки хахульи стали. Что тут было! Вентерями рыбными ловить начали, из ружей стрелять, да и просто палками вот на этой самой Илькиной косе каждую весну сотнями хахулей били. Тебе может непонятно, почему они сюда плывут в водополье. Да дело в том, что норы их в пойме заливает! Они к берегу плывут, а течение как раз на Илькину косу бьет. Понятно? Так вот, били длинноносов, били — и докончили! Совсем их не стало. Потом декрет вышел — запрещение охоты на хахуля. Думали мы: ничего не выйдет из этого, крышка, теперь уж не расплодятся. Ан, нет! Пять лет всего не бьем, а сколько их развелось обратно?!
Старик замолчал… Он задумался, утомленный долгим рассказом. Я положил зверька в лодку и стал подводить итоги рассказа Евстигнея. Одним из первых декретов советской власти по линии мирного строительства (1921 г.) был закон-инструкция по охране памятников природы, старины и искусства и, в частности, по охране вымирающих или сильно истребленных зверей и птиц, например, бобра, выхухоли, зубра, белой цапли и т. д. Закон этот не только сохранил от истребления интересного зверька, выхухоль, но и создал предпосылки для построения правильного охотничьего хозяйства, в котором объектом промысла будет и этот зверек, имеющий прекрасную шкуру, очень высоко котируемую на заграничных меховых рынках.
* * *
Пока мы курили и раздумывали, солнце поднялось уже высоко. Забереги подтаяли. Ветер засвистал над рекой.
— Едем, что ли, чаек пить, — сказал Евстигней.
Я согласился, и мы поплыли к Желтым Пескам.
СМЕРТЬ ЛИХОГО
Рассказ-быль В. Савина
С обрыва «Крутого» открывался обширный вид на равнину левого берега Кубани. Изрезанные перелесками сочные луга уходили к далекому голубому горизонту. Под обрывом, стиснутая скалами, клокотала Кубань, образуя пенистые водовороты и заливая желтые отмели сердитой волной. На одной из этих отмелей нашел последний отдых любимец всего нашего полка — конь Лихой.
Этот памятный день начался, как и всегда, шумной и напряженно торопливой работой полкового штаба. Был жаркий полдень, когда меня вызвал командир и, вручая запечатанный пакет, коротко бросил:
— Доставьте спешно в штаб бригады. Для быстроты исполнения езжайте на Лихом.
Через десять минут легким аллюром я выезжал из станицы по пыльной дороге. Лихой — гнедой красавец со стройными ногами, гордой головой и умными глазами. В его жилах текла буйная кровь, и она давала себя чувствовать, как только немного ослабевали поводья. Тогда конь, озорно перебирая ногами, ускорял ход; мгновенно останавливаясь у рытвин и камней, он птицей перелетал через них и несся дальше.