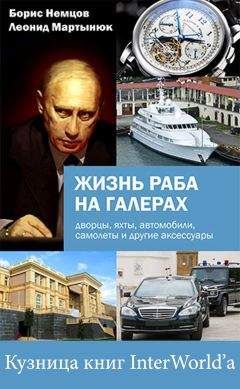Наивно мечтать о неспешной беседе с президентом Московского международного Дома музыки, худруком и главным дирижером сразу двух коллективов — Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Владимир Теодорович давно живет и перемещается в пространстве в темпе presto. Это интервью собиралось по кусочкам. Начинали мы разговор в Белокаменной, продолжили на европейских гастролях НФОР где-то между Мюнхеном и Штутгартом, а заканчивали уже по телефону то ли из Турции, то ли из Бельгии...
— Расскажите, Владимир Теодорович, как вы не стали Мстиславом Леопольдовичем.
— Действительно, учиться музыке я начинал на виолончели. Но инструмент оказался для меня очень тяжел. Я ведь родился в конце войны, а мама, как и все ленинградцы, голодала в блокаду. В августе 1942 года она была на вошедшем в историю концерте в филармонии, когда впервые исполнялась Седьмая симфония Шостаковича. Зал заполнился битком, мама слушала музыку стоя... Командующий Ленинградским фронтом Говоров приказал на время концерта подавить огонь вражеских артиллерийских батарей и сам приехал на премьеру... Много позже, уже в шестидесятые годы, когда родители решили перебраться в Москву следом за мной, папа нашел нам квартиру на улице Маршала Говорова и сказал маме: «Катюша, ты должна обязательно ее посмотреть. Это все-таки далековато от центра». Реакция мамы была мгновенной: «Никаких просмотров! Переезжаем. Говоров — святое имя для меня...»
Так вот. Возвращаюсь к виолончели. Силой и статью в детстве я не отличался. Пошел явно не в отца, высокого, атлетически сложенного, в молодости работавшего грузчиком в одесском порту. В славном городе у моря жило много нашей родни. Пока Одессу не оккупировали немцы и не развезли евреев по концлагерям. Правда, не всех. Моего прадеда вместе с прабабушкой повесили на люстре в их собственной квартире... Отец ушел на фронт добровольцем, был тяжело контужен, ранен. Помню шрам у него. Папа брал меня с собой на первомайские демонстрации и нес на руках, а я обхватывал его шею и чувствовал под пальцами рубец... После выписки из госпиталя отца комиссовали, он работал старшим мастером на Уфимском авиазаводе, где выпускали двигатели для бомбардировщиков. Располагалось предприятие в городе Черниковске. Там папа и познакомился с мамой. Ее эвакуировали из Ленинграда, она устроилась пианисткой в клуб «Ударник» на моторном заводе. Мамины родители, кстати, тоже родом из Одессы, а в музыкальной школе она училась с Эмилем Гилельсом. Как говорится, «бывают странные сближения».... Мама до конца жизни оставалась превосходной пианисткой. Однажды я подошел к двери нашей комнаты и услышал, как кто-то вдохновенно играет концерт Шумана. Решил, что в гости заглянул знакомый музыкант. Мне и в голову не пришло, что за роялем мама, которой в ту пору было уже далеко за семьдесят. Первые уроки музыки я получил именно от нее.
После Победы, в конце 45-го, мы вернулись в Ленинград. Мама устроилась преподавателем в музыкальную школу. Я часто ходил с ней, поскольку жили мы бедно, няню позволить себе не могли, а дома оставаться было не с кем. Пока мама работала, я блуждал по классам, забредая в те, где звучала заинтересовавшая меня музыка. И как-то само собой получилось, что в 1953 году я начал учиться в музыкальной школе. Правда, в десятилетку при Ленинградской консерватории меня не приняли. В анкете я указал, что папа работает врачом-диетологом, а тогда на слуху было дело «врачей-отравителей», и приемная комиссия предусмотрительно решила не связываться с неблагонадежным абитуриентом. Я занимался в районной музыкальной школе на Петроградской стороне. Виолончель выбрали родители, почему-то им нравилась мысль, что сын будет играть на таком красивом и солидном инструменте. Однако через несколько недель я попросил подобрать что-нибудь полегче. Остановились на скрипке. Но и на ней первые месяца три у меня не получалось почти ничего, хоть плачь! А потом я услышал, как старшеклассник играл моему учителю Борису Крюгеру «Размышление» Чайковского. Впечатленный, пришел домой и по памяти подобрал мелодию на скрипке. Когда на следующем занятии Крюгер сказал маме, что, по-видимому, я безнадежен, она возразила: «Сейчас Вова сыграет фрагмент «Размышления», и вы, Борис Эммануилович, измените мнение». После моей игры Крюгер на секунду задумался и сказал: «Пожалуй, что-то в нем все же есть...» С этого все и началось. Первый концерт я дал в восемь лет. Вышел на сцену, положил скрипку на рояль и... деловито подтянул коротковатые штаны. Зал лег от хохота, а я, как ни в чем не бывало, бодро исполнил «Мазурку» Баклановой, откланялся и ушел за кулисы. К третьему классу меня все же перевели в школу при Ленинградской консерватории...
— Еврейский мальчик со скрипкой — это диагноз или судьба?
— Лучше Миши Жванецкого не скажешь, у него есть замечательное определение: человек, играющий на скрипке, автоматически становится евреем... А если говорить серьезно, еврейская тема у нас дома никогда не поднималась. Родители не знали идиш, отец был коммунистом, причем убежденным, прошел войну и не раз подчеркивал, что на фронте антисемитизма не могло быть по определению, мать — блокадница, а это понятие вненациональное. Мы часто меняли квартиры, одно время жили на улице Короленко, где соседка по коммуналке Лидия Львовна, из бывших дворянок, приобщала меня к русской поэзии. Интеллигентная до рафинированности тетя Ляля обожала стихи, помнила наизусть Блока, Бальмонта, Северянина, Мережковского... Потом мы перебрались на улицу Союза Печатников, и уже Анна Ефимовна кормила меня тюрей — борщом с размокшим, превратившимся в кашицу хлебом. Это заменяло нам и первое, и второе, а сама Аннушка стала для меня кем-то вроде Арины Родионовны. В блокаду она потеряла зубы и ничего твердого разжевать не могла. Зато замечательно рассказывала сказки, которых знала много, и водила меня на службу в Никольский собор. Анна Ефимовна в храме все время повторяла: «Страх Божий! Страх Божий!» Я спросил: «А что это?» В ответ услышал: «Люди боятся потерять Господа, остаться без него...» Не помню, чтобы кто-нибудь хоть раз поинтересовался моей национальностью. Да, в детстве мне приходилось драться, но уж никак не из-за пятой графы в анкете. Вот представьте: идут по Матвеевскому переулку прилежные мальчики со скрипочками, возвращаются из музыкальной школы, а им навстречу — местная шпана. Как не отлупить маменькиных сынков? Били нас регулярно, как теперь говорят, метелили конкретно. В конце концов мне это надоело, я решил защищаться. Школьный учитель физкультуры посоветовал записаться в секцию бокса при Институте Лесгафта. Так и сделал. Года три тренировался, даже в соревнованиях участвовал, юношеский разряд получил... Может, и дальше занимался бы спортом, но мой профессор Юрий Исаевич Янкелевич был против всего, что мешало и отвлекало от музыки. Пришлось бросить спорт, но я благодарен боксу хотя бы за то, что он пару раз спас мне жизнь.
— Даже так?
— Не люблю об этом рассказывать, чтобы не выглядеть нескромно.
— Специально интригуете, Владимир Теодорович?
— Сати уже описала памятный эпизод в своей книге...
— Сорри, не читал...
— Это история, думаю, середины 80-х. С оркестром Ленинградской филармонии я отыграл на Пасху скрипичный концерт Чайковского в парижском зале Плейель, после чего мы с Сати пошли в гости к Вишневской и Ростроповичу. Поели, попили, поговорили и решили расходиться. Время — глубоко за полночь, часа три, не меньше. Такси не вызывали, благо до отеля, где жили, можно было дойти пешком. Захотелось прогуляться перед сном.. Слава пошел провожать, но быстро замерз и вернулся домой. Вдруг откуда ни возьмись возникли трое и напали на нас с Сати. Они потребовали, чтобы я отдал им все ценное, что было с собой. А у меня в футляре со скрипкой лежала куча франков, фунтов и марок — гонорары за только что завершившиеся гастроли по Германии, Англии, Франции и за запись пластинки. Вы же помните, советские артисты сначала получали гонорар, а потом почти целиком сдавали его в Госконцерт. Себе разрешалось оставлять лишь более чем скромные суточные. И вот в долю секунды я представил, что ждет меня в Москве, если грабители отнимут подотчетную валюту. Возвращать ее пришлось бы в десятикратном размере! За всю жизнь не расплатился бы, да и в ночное нападение бандитов никто не поверил бы! Словом, раздумья длились недолго, я понял: придется драться, спасая не столько себя, сколько валютную выручку для родной державы... Бедная Сати кричала, звала на помощь, но, разумеется, никто из добропорядочных французов не откликнулся и даже полицию не вызвал. Били меня ногами, повредили ребра... Когда нападавшие выдохлись и взяли паузу, неожиданно для них я сумел подняться и, собравшись с силами, вспомнил все, чему учили в Институте Лесгафта. Грабители в ужасе разбежались... Сати все еще дрожала от испуга, я попытался ее успокоить: «Мы победили!» Она коснулась моей руки: «Но ты весь в крови...» Я ответил: «Не волнуйся, это не моя...» В гостинице взглянул на себя в зеркало и убедился, что выгляжу, мягко говоря, экстравагантно: в порванном костюме с красными пятнами на белоснежной сорочке и со скрипкой в руках... Позвонил в Москву, сказал, каким рейсом прилетаю, и попросил из аэропорта сразу отвезти в Институт Склифосовского, поскольку чувствовал: с ребрами что-то не в порядке. Действительно, врачи сделали снимок и немедленно закатали меня в гипсовый корсет, в котором я проходил целый месяц. Первое время из-за боли с кровати не мог встать, скатывался боком. Тем не менее через две недели дирижировал в Ватикане на концерте в честь Папы Иоанна Павла II...