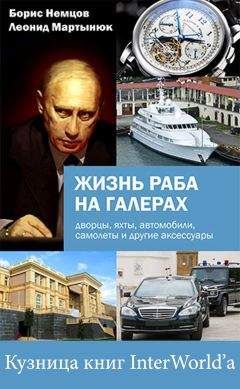— Тогда вы ему, пардон, какашку подложили? Другие обычно подкладывают свинью, а вы, значит, и тут пошли своим путем...
— Слышали историю, да? У Юрия Исаевича было потрясающее чувство юмора, чем я злоупотреблял. Порой шутил на грани фола. Однажды купил искусственную какашку и незаметно положил на полу в кабинете у профессора, когда пришел к нему домой на занятия. Начали репетировать Баха, а я время от времени демонстративно морщился, поводил носом. Наконец Янкелевич не выдержал: «Что ты кривишься, Володя? Не нравится Бах?» Я вежливо ответил: «Дело не в этом, Юрий Исаевич... Извините за откровенность, но у вас странно пахнет. Здесь явно неладно». И еще раз повел носом. Удивленный учитель окинул взглядом комнату и заметил «приятную неожиданность» у дивана. Янкелевич в секунду покрылся красными пятнами и возопил: «Какой ужас! Наверняка Фуга постаралась. Несносная собака! Ты сегодня у меня пятый студент, неужели все это видели? Стыд! Надо звать домработницу, пусть немедленно уберет. Зина! Зина!» Я остановил хозяина квартиры: «Не беспокойтесь, Юрий Исаевич, сам справлюсь». Подошел к дивану, наклонился, небрежным движением подхватил какашку и, не поморщившись, запихнул в карман. Янкелевич впал в прострацию. Какое-то время напряженно молчал, а потом стал хохотать как сумасшедший. При этом его круглый животик комично подпрыгивал и трясся, как у мультяшного гиппопотама: «Разыграл, стервец! Купил! Дай-ка мне эту какашку, одолжи на пару дней. Подброшу кому-нибудь из студентов...» И действительно, на ближайшем же занятии подложил дурно выглядящую игрушку на клавиши рояля. Бедная первокурсница, пришедшая к уважаемому мэтру, открыла крышку и чуть не упала в обморок... Но, может, хватит о фекалиях? Давайте сменим тему.
— Тогда о высоком. Награды на международных конкурсах помогли вам утвердиться в мысли о правильности сделанного жизненного выбора?
— Они спасли меня от армии! Моей природе претят любые соревнования. Всегда их терпеть не мог, хотя конкурсы давали право на отсрочку. Страшно нервничал, когда предстояло выступать перед каким-нибудь жюри или комиссией, но для меня, крепкого, здорового парня, это был единственный способ избежать службы. Когда в военкомате вручали удостоверение допризывника, сказали, что, скорее всего, заберут в десантники. Такая перспектива не слишком обрадовала, и все же с тех пор считаю День ВДВ отчасти и своим праздником, испытываю теплое чувство к парням в голубых беретах и тельняшках. Есть в их отношениях что-то крепкое, настоящее, мужское...
Первый конкурс скрипачей, в котором участвовал, — имени Маргариты Лонг и Жака Тибо. Париж, 1965 год. Прошел прослушивание в консерватории, выдержал жесткий отбор... До того ни разу не выезжал за границу, а тут — Париж. Сказка наяву! Значительную часть суточных потратил на малоформатные книжечки об искусстве с репродукциями полотен импрессионистов. Конечно, продавались и роскошные альбомы, но они были мне не по карману. В свободный день побежал в Лувр, потом отправился в музей Родена. Особенно впечатлили рисунки. Часть из них художник сделал с закрытыми глазами, проверяя координацию и память... Разумеется, побывал я на Монмартре и пляс Пигаль, куда стремились все русские. Это то, что запомнилось из первой поездки. В 1967-м была Генуя, конкурс Паганини. Через два года получил первую премию на конкурсе в Монреале. Это состязание оказалось самым тяжелым. Перед финалом нас поселили в монастыре, в спартанских условиях, и я сильно простудился. И все же победил! С успехом меня поздравил Давид Федорович Ойстрах, хотя я выиграл у трех его учеников — Кремера, Крысы и Мазуркевича. Знаменитый Глен Гульд предложил сделать совместную запись в Торонто, но Москва не разрешила. Зато в 70-м меня заставили участвовать в конкурсе Чайковского, хотя я этого не хотел, не успевал подготовиться как следует. Так и двигался по жизни короткими перебежками от одной отсрочки к другой, пока не перерос призывной возраст...
— Победы на конкурсах для вас были важны?
— Для меня лично — нет, но перед каждой поездкой вызывали в министерство культуры и дико накачивали, рассказывая, что мы не должны посрамить честь Родины, оказавшей нам доверие. Мол, советский человек не имеет права на проигрыш. После такого у любого коленки задрожат, не то что руки. Порой доходило до откровенных глупостей. Как вам такая директива? «С разнополыми в лифте не ездить!» Значит, если в кабине девушка, заходить туда нельзя. А вдруг что-нибудь случится между первым и вторым этажами. Ну не бред ли?
— Но ведь бывали и реальные провокации, Владимир Теодорович?
— Уже рассказывал, как в 1977 году представители сионистской организации в США пытались сорвать мой концерт в «Карнеги-холл» в знак протеста против того, что из СССР не выпускали в Израиль евреев на ПМЖ. Во время выступления я получил мощный удар в солнечное сплетение брошенной из зала трехлитровой банкой с краской. Было очень больно. Я ведь не успел сгруппироваться, напрячь мышцы. В первую секунду подумал, что убили. Увидел на себе что-то красное и решил: кровь. Не мог от резкой боли ни вдохнуть, ни выдохнуть. Потом понял, что на мне красная краска, и стал медленно распрямляться. Скрипку держал крепко, не выронил. И на нее, конечно, попали красные капли. Усилием воли восстановил дыхание и доиграл «Чакону» Баха до конца. С последней нотой трехтысячный зал встал и аплодировал мне так, как никогда прежде. Мэр Нью-Йорка официально извинился по телевидению, тогдашний госсекретарь США Киссинджер прислал телеграмму, а «Дженерал Моторс» подарил машину «Шевроле» и взял на себя расходы по доставке ее в Москву. Потом я еще долго рассекал на этом авто на зависть иным коллегам. «Окровавленную» рубашку стирать не стал, и мама сохранила ее на память. Спустя время ЦК ВЛКСМ наградил меня премией Ленинского комсомола. Видимо, за проявленную несгибаемость. В прямом и переносном смысле... Хотя, сказать по правде, я лет десять потом не мог исполнять со сцены «Чакону». Был шок, глупо скрывать. Только начинал играть, сразу всплывали воспоминания. Слышал каждый шорох в зрительном зале, женщина в последнем ряду тянулась к сумочке за носовым платком, а я невольно напрягался в ожидании провокации...
— Скрипка тогда не пострадала?
— Ее сразу же в Америке и починили, и от краски очистили. Все сделали бесплатно.
— Она ведь и без того была, можно сказать, инфарктницей?
— Да, имела вклейку на груди. По идее скрипка с таким дефектом не должна звучать, но я играл на ней долго, прошел все конкурсы, по сути, сделал карьеру. Инструмент венецианского мастера Гобетти достался мне в подарок от Юрия Исаевича. Я не расставался с ним, пока не взял в руки Страдивари 1713 года. Он стоил тогда два с половиной миллиона долларов. Конечно, у меня не было средств на покупку, но нашлись люди, приобрели скрипку и предоставили мне ее в пожизненное пользование. Вот она, перед вами...
— Перед инцидентом в Нью-Йорке вы ведь несколько лет были невыездным?
— Да, меня не выпускали из страны.
— Почему?
— Разве не слышали поговорку, оставшуюся с советских времен? На вопрос warum? есть ответ — darum. Игра слов на немецком: «Почему?» — «Потому!» Никто не опускался до объяснений причин отказа. Чести много! Компетентные органы знали, что делали, и решения не комментировали... Из-за этого я не смог сыграть с Караяном, трижды присылавшим приглашения на мое имя. Мне не давали разрешения на выезд. Началось это в 70-м и продолжалось года три с лишним. Потом потихоньку ослабили хватку... Поспособствовал этому Тихон Николаевич Хренников, первый секретарь Союза композиторов, чьи произведения я исполнял. Если в программе концерта была его музыка, мог ехать... До сих пор не знаю, по какой причине угодил в неблагонадежные. Однажды в самолете, летящем из Парижа в Москву, я оказался рядом с Виталием Вульфом. Он сказал: «Мне открыли архивы Министерства культуры, там много документов под грифом «Для служебного пользования». Забавно читать, как известные артисты просят у министра машины, квартиры, ордена и прочие блага, какими словами пользуются...» Я спросил: «А на меня что-нибудь есть?» Вульф ответил: «Только масса доносов!»
— Не захотели узнать имена тех, кто на вас строчил?
— Лучше оставаться в неведении, чтобы не потерять веру в человечество... Шучу. Хотя одного стукача я раскрыл. Он сам себя выдал. Это был профессор Московской консерватории, фамилию которого называть не хочу. Вроде нам и делить-то было нечего, но человек не мог спокойно жить, когда слышал о Спивакове. Все банально: ревность, зависть... Сальери жив, он никуда не исчез. Дважды в жизни мне пришлось сказать, глядя в глаза визави: «Вы негодяй и подлец». Совершенные поступки, их низость не оставляли мне выбора... Но я предпочитаю вспоминать не плохих людей, а хороших.