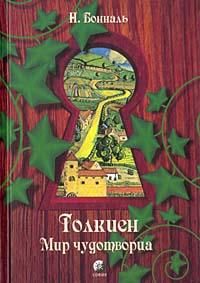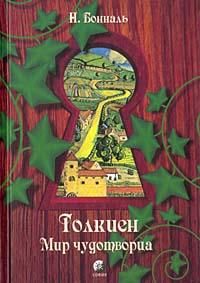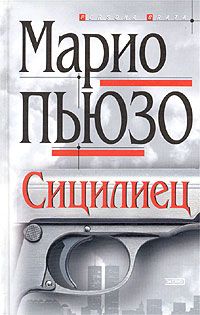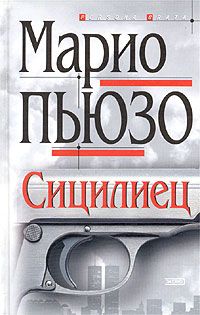По прибытии в чертог Теодена четверо искателей приключений (Гэндальф, Гимли, Леголас и Арагорн) встречают самую, пожалуй, прекрасную героиню Толкиена, и красота ее оценивается по достоинству:
«Девушка отправилась назад, но в дверях обернулась. Суров и задумчив был ее взор; на конунга она взглянула с безнадежной грустью. Лицо ее сияло красотой; золотистая коса спускалась до пояса; стройнее березки была она, в белом платье с серебряной опояской; нежнее лилии и тверже стального клинка — кровь конунгов текла в ее жилах».
Разве могла такая красавица не понравиться Арагорну? Она явилась ему «во всей ее холодной, еще не женственной прелести, ясная и строгая, как вешнее утро в морозной дымке». Непорочность будет лежать на Эовин тяжким бременем на протяжении почти всей книги; давят на нее и унизительные слова Гримы (Гнилоуста), и недуг Теодена; но, невзирая ни на что, ее ждет судьба девы–воительницы, валькирии, но никак не мирной хранительницы домашнего очага. Чувственность в ней впервые пробуждает Арагорн, когда она подносит ему кубок вина: он «…принимая кубок, невзначай коснулся затрепетавшей руки».
Нелегко приходится девушке и после того, как Арагорн запрещает ей следовать за ним. Но жить дальше по–прежнему ей невмочь, хотя приходится согласиться со словами Арагорна:
«Настанет время безвестной доблести: никто не узнает о подвигах последних защитников родимого крова».
На это Эовин отвечает, что она боится золоченой клетки, то есть боится «привыкнуть к домашнему заточению, состариться и расстаться с мечтой о великих подвигах».
Хорошо сказано — будто словами сотен поколений рыцарей, для которых невозможность блеснуть отвагой на поле брани сродни страшному увечью и дальнейшему жалкому существованию, то есть жизни без всякого смысла. И тут Эовин чуть приоткрывает свои чувства, поверяя Арагорну, что если и пойдут за ним серые дружинники, то только «потому, что не хотят с тобой разлучаться, потому, что любят тебя».
Эовин переодевается в конника, при виде которого Мерри думает: «Совсем еще юноша, невысокий, худощавый». Затем «он уловил отсвет ясных серых глаз и вздрогнул, внезапно поняв, что в этом лице нет надежды, что его затеняет смерть».
Но тот же Дерхельм (прозвище Эовин) тайно поведет Мерри, которого не захотели взять в поход, на поле брани, где ему будет суждено прославиться:
«Вот и поедешь со мной. Я посажу тебя впереди, укрою плащом, а там отъедем подальше, и еще стемнеет».
Не менее впечатляет и пробуждение воинственного духа у Теодена; старый властитель в мгновение ока, словно по мановению чудесного жезла, избавляется от бремени лет:
«Протяжно запели трубы. Кони вздыбились и заржали. Копья грянули о щиты. Конунг воздел руку, и точно могучий порыв ветра взметнул последнюю рать Ристании: громоносная туча помчалась на запад».
И вот начинается война, а вместе с нею для каждого героя настает время ратных подвигов. Впрочем, Толкиен не уделяет пристального внимания собственно сражениям: они коротки, все свершается быстро, будто на одном дыхании, тем более что его герои явно превосходят в силе и отваге своих многочисленных врагов — орков. Взять хотя бы такой вот пример:
«Двое из них [орков] бесшумно и быстро, в несколько прыжков нагнали отставшего Эомера, подвернулись ему под ноги, оказались сверху и выхватили ятаганы, как вдруг из мрака выпрыгнула никем дотоле не замеченная маленькая черная фигурка. Хрипло прозвучал клич: «Барук Казад! Барук аймену!» — и дважды сверкнул топор. Наземь рухнули два обезглавленных трупа. Остальные орки опрометчиво кинулись врассыпную».
Эомер благодарит Гимли за его храбрость, на что тот, как ни в чем не бывало, отвечает:
«Да это пустяки. Главное дело — почин, а то я от самой Мории своей секирой разве что дрова рубил».
Чуть погодя Гимли даже вступает в соревнование с Леголасом — кто сразит больше орков. Леголас, к примеру, доводит число своих жертв до двух десятков… и все без толку:
«их здесь, — говорит он, — что листьев в лесу». Между тем сеча становится жестокой, «вражьи полчища множились на глазах», «орки по–обезьяньи вспрыгивали с них [осадных лестниц] на зубцы [крепостных стен]».
Затем Гимли с гордостью объявляет, что сразил двадцать одного орка, превзойдя, таким образом, Леголаса. А спустя время он опережает Леголаса еще на одного зарубленного орка; одна беда — секира у него затупилась…
И все же численность вражьих полчищ до того велика, что Теоден сомневается в исходе битвы:
«Знал бы я, как возросла мощь Изенгарда, не ринулся бы столь опрометчиво мериться с ним силою по первому слову Гэндальфа. Теперь–то его советам и уговорам другая цена, чем под утренним солнцем».
К счастью, Гэндальф возвращается в облике Белого Всадника — под громогласные приветствия всего ристанийского воинства. Но сомнения все сильнее одолевают Теодена: они будто отдаются у него в сердце эхом отчаяния, в которое прежде ввергал его своими пагубными речами Гнилоуст.
Как бы то ни было, впереди героев ждет победа — и добиться ее удается благодаря нежданному вмешательству, вернее, подмоге онтов во главе с Фангорном–Древнем. Тех самых, про которых Гэндальф позже споет:
«Еще руду не добыли, деревья не ранил топор, Еще были юны подлунные, серебристые выси гор, Колец еще не бывало в те стародавние дни, А по лесам неспешно уже бродили они».
А Мерри потом вспоминает:
«Тогда мне впервые показалось, что за нами движется лес… А это, оказывается, были гворны… вроде бы те же онты, только одеревенелые, во всяком случае, с виду… Сила в них тайная и страшная».
Участие онтов в битве за Изенгард — один из самых достославных подвигов, описанных во «Властелине Колец»: благодаря их отваге и удалось сокрушить полчища орков, подручных Сарумана. Отныне Теоден больше не усомнится в советах Гэндальфа и будет с изумлением взирать на «странный лес». Ибо оттуда и «встала древняя сила, старинные обитатели Средиземья: они бродили по здешним местам, прежде чем зазвенели эльфийские песни…»
Как скажет Теодену Гэндальф, «это всего–навсего пастухи. Они не враги наши, да они нас вовсе и не замечают», хотя и становятся на сторону конунга Теодена. А тот меж тем с грустью замечает, что «…даже если мы победим, все равно много дивного и прекрасного исчезнет, наверное, из жизни Средиземья».
И Гэндальф вторит ему:
«Лиходейство Саурона с корнем выкорчевать не удастся… Но такая уж выпала нам участь».
Интересно, что сказал бы он про наше общество, осквернившее, сгубившее на корню многие первозданные места на земле ради своих корыстных интересов?.. А ведь именно в этом контексте следует понимать войну онтов против Изенгарда, Сарумана и орочьих полчищ: с их стороны это не что иное, как месть злым духам, покусившимся на вековечную святыню — природу. И Саруман, губитель деревьев, расплачивается за все сполна: он унижен — Теоден презирает его, а Гэндальф выставляет посмешищем. Ну а пока суд да дело, его решено оставить под надзором онтов.
Здесь история войн на время прерывается, и мы переносимся в Мордор, где Сэм с Фродо встречаются с Фарамиром, братом Боромира. Впрочем, Фарамир доводится ему сводным братом, да и по уму и благородству души он один из самых доблестных воителей в истории о Кольцах. В Фарамире и воинах его Фродо «видел светлокожих, темноволосых и сероглазых мужчин, полных достоинства и суровой печали… они — южные дунаданцы, потомки властителей Заокраинного Запада».
Стало быть, они — сыны древнейшего и благороднейшего из колен. Лицо у Фарамира было «суровое и властное; его устремленные на Фродо серо–стальные глаза глядели остро, проницательно и задумчиво».
У Фарамира с Фродо будет долгий разговор — из него–то он и поймет, сколько лиха хлебнул хоббит с Боромиром, защищая Кольцо.
«Сердце его [Фродо], однако, чуяло, что Фарамир, с виду очень похожий на брата, осмотрительнее, мудрее и надежнее его».
Затем Фарамир рассказывает Фродо о том, как увидел во сне своего брата мертвым, в каком–то странном, будто эльфийском, облачении… Фродо не удается утаить от проницательного Фарамира, что у них с Боромиром вышла размолвка, и все из–за великого Проклятия Исилдура. Но предоставим слово самому Фарамиру:
«Не знаю и не ведаю, какое вражеское достояние понадобилось Исилдуру: должно быть, некий могучий гибельный талисман, орудие лиходейства Черного Властелина. И если оно сулит удачу в бою, то наверняка Боромир, гордый, бесстрастный, зачастую безоглядный, жаждущий блеска побед Минас–Тирита и блистания своей воинской славы, неудержимо возжелал этим орудием завладеть».
Да уж, Фарамир и сам обо всем догадывается и так прямо и говорит об этом Сэму и Фродо: ведь он совсем не такой, как Боромир, — он воин куда более осмотрительный и благоразумный: