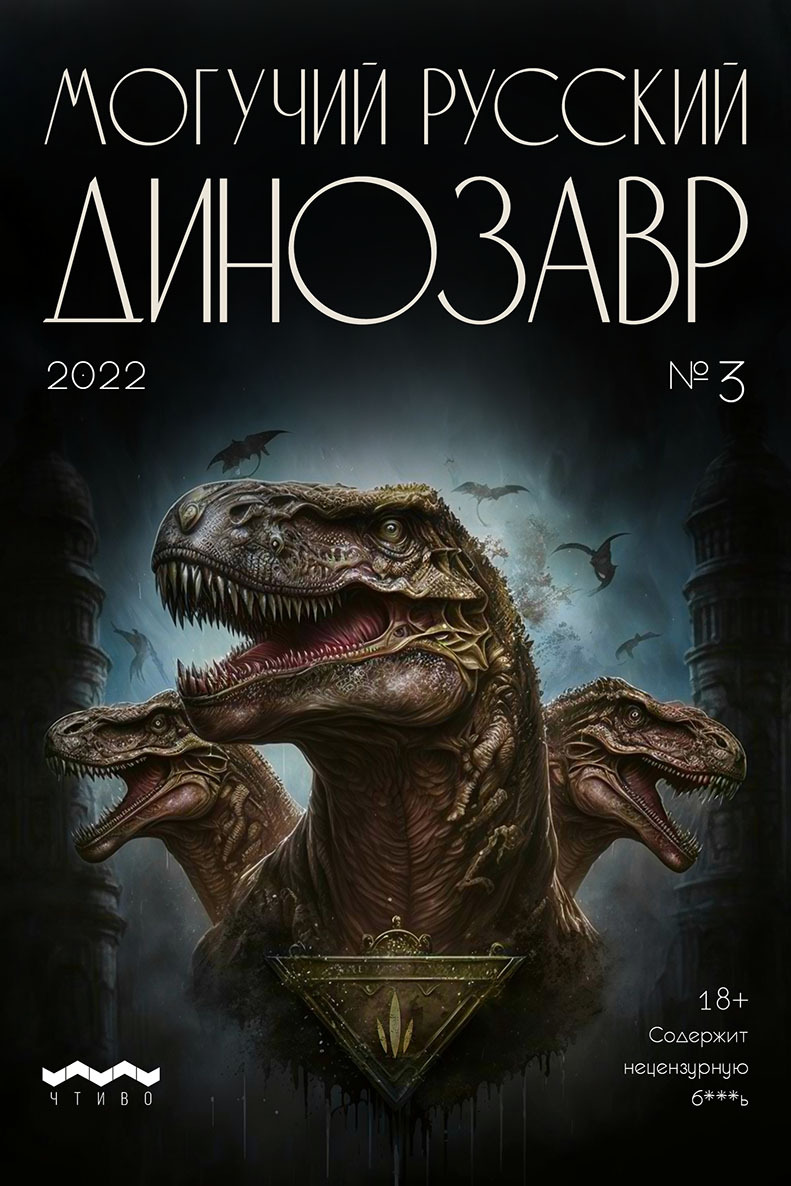поразил один факт: то, что на уровне проституции возможно абсолютно все, приводит к ослаблению желания. Если считать, что желание вещь дурная, а я так считаю, то это выход. Чтобы уничтожить желание, его надо удовлетворить, так проще всего. С моей стороны не такая уж максималистская позиция.
– Мишель больше не верит ни в коллективные планы, ни в политику. Для него и для Валери выход – нечто вроде бегства в индивидуализм…
– В этой истории главная – Валери. Именно она пытается отвоевать у общества деньги, необходимые для их совместной жизни. Себя она называет маленькой хищницей с ограниченными потребностями; я очень ее люблю. Я, как Достоевский, думаю, что от носителя любой благородной и всеобщей идеи надо потребовать, чтобы он составил счастье одного отдельно взятого человека. Все мои персонажи – политические нигилисты, это верно. Я вынужден признать, что общество, в котором я живу, движется к целям, которые мне совершенно чужды. Запад непригоден для жизни человека. По сути, на Западе можно по‐настоящему делать только одно – зарабатывать деньги. То есть позиция Валери довольно часто встречается среди молодежи: быстро заработать денег, а потом уехать жить в другое место. Вполне разумно.
– Мишель говорит, что у его предков была цель, что они верили в прогресс, в цивилизацию и были приверженцами идеи связи поколений. Ваши персонажи – прекрасное воплощение отказа от всего этого…
– У нас делается все, чтобы на Западе ничего не менялось. Например, Берлускони роняет одно-единственное замечание, и все тут же заявляют, что располагать цивилизации на шкале ценностей – идиотизм… Нет, не идиотизм. Нас хотят отучить от мысли, что западная цивилизация в некоторых отношениях оказалась лучшей – и цивилизация эта тут же растворяется в цинизме. Долгое время существовала идея, что благо будущих поколений – штука важная. Безусловно, в наши дни люди строят куда меньше планов. Жизнь все больше и больше сводится к бытовым ценностям. Эвтаназия – довольно характерное явление для того представления о жизни, согласно которому в ней нет ничего, кроме корысти и удовольствия.
– В “Платформе” есть совершенно дикие сцены городского насилия. Вы пишете, что, когда утрачена возможность отождествить себя с другим, остается только один способ жить – страдание и жестокость…
– Думаю, что это происходит по большей части из‐за притягательности потребления. И еще, естественно, из‐за левой культуры, которая в значительной мере старалась возвысить Зло, создать ему ауру, в частности, через образ “плохого парня”, например, Жана Жене, причисленного Сартром к лику святых. Единственным мотивом у Сартра могла быть лишь пропаганда имморализма, он, естественно, в состоянии был понять, что Жене – писатель посредственный. Все это способствовало общему обесценению понятия морали. Но в Соединенных Штатах ситуация еще хуже, а там левацкая культура все‐таки распространена куда меньше. Под этим всем есть что‐то более странное: людям хочется драться, им хочется насилия. У меня такое впечатление, что компромиссов становится все меньше, даже когда противоречия совсем незначительные. Например, я знаю, что мои враги так и останутся всегда моими врагами. Гедонистический индивидуализм в чистом виде порождает закон джунглей. Но в джунглях животные стараются свести собственный риск к минимуму. У современного же западного человека присутствует к тому же реальная тяга к насилию. Недавняя подборка “Жизнь как «Бойцовский клуб»” в журнале Technikart с этой точки зрения довольно убедительна. Возможно, насилие связано с тем, что людям трудно испытывать ощущения сексуального порядка. Они утратили вкус к обычным приятным вещам. А потом, визуальные медиа удачно поддерживают эту тенденцию.
– “Платформа” несет очень сильный комический заряд, в частности, в первой трети романа. Вы хотели захватить читателя целиком и не отпускать’?
– Да, наверное. Мне нравились персонажи Робера и Жозианы. Мне нравится Робер. Я очень люблю персонажей, которые всех достают. Такие есть в любой группе. В забавных фрагментах – кроме “Гида путешественника” – мне хотелось отплатить американским бестселлерам. И вообще мне хотелось написать книгу, которую можно прочесть в один присест, без перерывов. Я много чем пожертвовал ради гибкости повествования и его быстроты. Еще я вернулся к более классическому употреблению времен – на основе испытанных имперфекта и простого прошедшего: это делает книгу более доходчивой и придает ей более классический вид.
– Зачем на заднем плане появляются такие фигуры, как Ширак, Жоспен, Жером Жаффре или Жюльен Лenep?
– Я считаю, что, когда читаешь романы прошлых времен, одно из удовольствий состоит в том, что перед тобой оживает эпоха, даже в самых незначительных ее аспектах. Так что я позволяю себе это и в своих собственных книгах. А потом, в сущности, все мы в своей жизни так или иначе думаем о Шираке. Нельзя о нем не думать. Всякий, кто живет во Франции, знает Ширака. По той же причине я упоминаю реальные бренды. У романа должно быть свое место во времени. Это отвечает логике романа. Он нуждается в настоящем времени.
– Наверное, в “Платформе” довольно удачной характеристикой как персонажа Мишеля, так и Запада в целом может служить одна фраза: “Здесь больше нет сердца”.
– Не думаю, что Запад по‐настоящему хочет жить. Это ощущение присутствовало уже в первой сцене “Расширения пространства борьбы”. Способности людей к эмоциональной ангажированности ограниченны. Никто не начинает жизнь заново. Разве что американцы в это верят.
– “И меня забудут. Очень быстро”. Это последние слова Мишеля. Вы думаете, что вас очень быстро забудут?
– На самом деле я писал весь финал в сильнейшем приступе мазохизма. Ну, может, и не думаю. Но я был очень доволен, мне казалось, это моя последняя книга, что‐то типа завещания. Тщеславие у меня не так уж сильно развито. Меня забудут, необязательно очень быстро, но все равно забудут.
– Не говоря уж о недавней полемике, вы вообще вызываете у читателей весьма эмоциональную реакцию. Я присутствовал при нескольких таких сценах, и у меня сложилось впечатление, что у некоторых иногда возникает желание сойтись с вами врукопашную… Чем вы это объясняете?
– Не знаю… может, тем, что я внушаю беспокойство. В конечном счете всем бы хотелось, чтобы я говорил всякие утешительные слова вроде: “Это все была шутка. На самом деле все хорошо. Все хорошо, а будет еще лучше”. Думаю, что от меня требуют примерно такого: “Все будет в порядке. Нет никакого конфликта цивилизаций. Жак Ширак сидит на своем месте. Это только кажется, что все плохо, а на самом деле все замечательно…” Чего‐то не хватает в моих романах, и меня хотят заставить произнести это