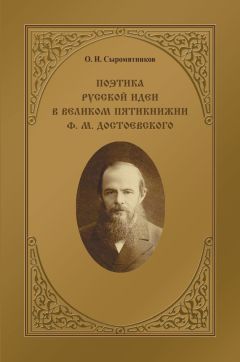Пахнет ветер мёдом и смородиной,
Вольный лес встревожен вороньём,
Мы в долгу, но только перед Родиной,
А не перед ссученным ворьём!
Крылатый стон
Тебя я встретил влюбчивой и броской,
В летящей юбке клёшевой с полоской,
Ты, словно бы дневник на переменке,
Показывала мне свои коленки.
Мы так с тобой друг другу удивились,
Что руки в ликованиях обвились.
Я целовал тебя и ты ласкала,
И долго нас земля не отпускала.
И ты, пьяна черемухой и мятой,
Смущалась тихо кофточки помятой,
А от моей взволнованной рубашки
Бежали к ней весёлые ромашки.
У наших ног трава, цветы стелились,
И мы сплелись, и мы не разделились,
И в сладкий миг мы с колокольным звоном
Слились и унеслись крылатым стоном.
Теперь там ива и шумит, и гнётся, —
Ни к ней, ни к нам былое не вернётся,
И только память, как над морем птица,
Вдруг закричит и в бездне растворится.
А там
Блок на холме, а там Есенин,
Блок на холме, а там Христос, —
Над ними, в пламени осеннем
Рязанских реющих берёз.
Куда идут — я не осилю,
Не разгадаю тайны я:
Спасать иль врачевать Россию
В стальных оковах бытия?
Нахлынули, как непогода,
Враги,
Владыка, ты прости —
За муки храмов и народа
И за поэтов отомсти!..
Они, они тоской нетленной
Овеяли пути свои,
О, эти два, седой Вселенной
Трагические соловьи!
Ты видишь, Бог, и мы до смерти
Неразлучимы, видишь, Бог,
Зачем гроза просторы чертит
Кривыми копьями дорог?
Или расправою недавней
Уж так предатели горды,
Что на Руси закрыты ставни
И все ворота заперты.
Траурный полдень
Памяти русских солдат,
погибших на Кавказе, посвящаю.
А на погосте лебедь стонет,
Куда, не знает, улетать, —
Там тихо воина хоронит,
Сынка единственного, мать.
Его отец в Афганистане
Погиб,
а он убит в Чечне,
Похоронила —
и не встанет:
Сидит, молчит, как в чёрном сне.
В тяжелый день вползает утро,
И рядом с нею, под Москвой,
Боевики скупили хутор,
Сожгли, и тут же строят свой.
Их рубль звенит нежней и дольше,
В их сумках доллары шуршат,
У них детей резвится больше,
Чем по канавам лягушат.
Россия.
Взрывы.
И авралы.
И за кровавою игрой
Министры пьют и генералы,
Нефть заедаючи икрой...
И ты гляди, гляди, подруга,
Ведь белый лебедь —
не птенец, —
Над ним вот-вот заплачет вьюга
И брызнет гибелью свинец.
Алексей Базлаков ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ЛИЦА
"ВЕНОК-РАВНИНЫ"
С нетерпением ждал сборника "Поэзия-88", т. к. в нём должны напечататься мои рисунки поэтов. И действительно, на последней странице-обложке оказались C. Поделков, С. Смирнов, Н. Глазков и В. Соколов. Правда, почему-то портреты загнали в раздел шаржа, — непонятно, но дело не в этом, а в том, что наткнулся на фото поэтов, прижавшихся друг к другу, — Анатолия Передреева и Александра Гаврилова, и к удивлению, посмертную статью о Саше.
Сашу Гаврилова рисовал ещё в Литературном институте, студентом, и после ни с ним, ни с его поэзией не встречался.
Но, не успел я погоревать о нём, как с другой страницы ударил пронзительный взгляд Передреева, а под большим портретом и "Венок Анатолию Передрееву", сплетённый из стихов его друзей-поэтов — В. Соколова, Ю. Кузнецова, Э. Балашова, М. Вишнекова и Р. Романовой.
Да, но это уже чересчур несправедливо — и Анатолия Передреева нет!.. Первое знакомство и рисунки я делал с него у Вадима Кожинова дома. Он так и сказал: "Алексей Иванович, приезжайте, не пожалеете: настоящий и мужчина, и поэт".
Сам же Кожинов под гитару спел "Гори, гори, моя звезда", как он утверждал, именно этот романс пел генерал Корнилов перед казнью, а потом Вадим Валерианович исполнил и романс на стихи Передреева…
Рисовалось весело. Анатолий Константинович старался быть сосредоточенным и внимательным к художнику, сидел терпеливо. Но вообще-то в последующие годы, уже у меня в мастерской, он мог и взорваться, но по делу.
Портрет был начат на большом листе сангиной. Разговор касался разных тем, но почему-то зацепились за художника Гелия Коржева, и я, сломя голову, начал расхваливать его: что это единственный художник, которому под силу монументальность образа, прямо-таки микеланджеловская мощь, — и протянул Передрееву его монографию с триптихом "Коммунисты".
Анатолий побледнел и, гневно проговорив: "Да вы что, это же мёртвая, бездушная живопись, сплошная патология", — швырнул монографию на пол, и она застряла в ножках мольберта, где стояло начатое полотно "Конец язычеству на Руси". Я так и обомлел, пытаясь понять, что же стряслось?
"Ладно, Алексей Иванович, а у вас я всё-таки получаюсь".
Он поднял растрёпанную книгу, но остановил взгляд на картине "Конец язычеству на Руси" и медленно проговорил: "И всё же рассечённый топором князя Глеба Волхов должен быть не сломлен духом. Язычество — это обожествление природы, солнца, а не каких-то придуманных сверхлюдей, богов".
Вообще-то мы не раз спорили, рассуждали над этой картиной, но сейчас мне кажется, он выразил и свою философскую поэтичность и преклонение перед естеством первозданного. Он вновь перевёл взгляд на портрет: "Нет, и в самом деле что-то схвачено!"
И последовал тост за удачу. И как-то незаметно продолжение получилось у него дома, допоздна, и компанию поддержала его жена Шема.
В его кабинете — на стене единственный цветной портрет Есенина — всё располагало к стихам, и я попросил Анатолия прочитать из его "Равнины", подаренной мне при первой нашей встрече, стихотворение, давшее название сборнику. Оно мне нравилось.
Он помолчал и за все наши встречи впервые прочитал мне эти стихи — проникновенно, созвучно внутреннему настроению стихотворения.
Особенно запали мне в душу горячие строки:
"Кто с отзывчивым талантом
Мчит на твой простор
Так, как будто эмигрантом
Был он до сих пор".
"Алексей Иванович, тост за союз слова и кисти! Завтра встретимся с хорошим человеком, разумеется, поэтом, порисуете, поговорим".
Уложил он меня спать под портретом Есенина, на тахте, и добавил: "Это почётно".
Наутро я под холодным душем блаженствовал, а Анатолий, наблюдая за мной, удивлённо вскрикивал. Я уговаривал его поддержать моё "моржевание".
Договорились, днём встретимся у меня в мастерской. Он в ЦДЛ поехал, а я — на работу. Намахавшись метлой, прямо на участке, на лавке, я заснул после почти бессонной ночи, и надолго, — и опоздал на наш творческий запой второго дня.
После он меня упрекнул: "А мы вас ждали. Э, вы все, художники, неуправляемы".
В это же время я одновременно начал рисовать и Юрия Кузнецова, который, увидев портрет Передреева, сказал: "Что-то вы его делаете опустошённым, каким-то пропащим".
"Как, — возразил я, — наоборот, я думал, схватил что-то, к тому же портрет ещё не закончен".