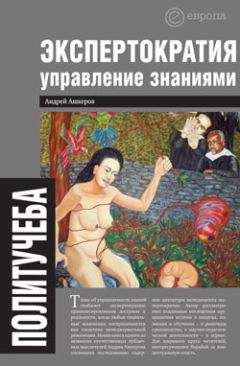Именно потому что Ашкеров видит прошлое и настоящее, он видит и будущее. Книга заканчивается главой «Новый футуризм», которую я не буду пересказывать, но про которую можно сказать, что она разрешает многие апории современной социальной мысли, видит просвет там, где, казалось бы, существует мертвый клинч противоречия (например, противоречия между экологизмом и технократизмом и др.) – Собственно противоречие нетерпимо, не потому что его нельзя помыслить (это неоднократно демонстрировалось), а потому что противоречащие элементы дополняют друг друга, не допуская никакого просвета, свежего воздуха и движения.
Вместе с тем некоторые отождествления Ашкерова оставляют пространство для спора. Например, у меня вызывает протест утверждение, что «православие находится с бюрократией в тех же отношениях, что протестантизм – с рынком: они идеально подходят друг другу». Бюрократия или ограничение каждого элемента системы «сдержками и противовесами» как несущего потенциальную угрозу системе (повышение комплексности, сложности системы за счет новых связей элемента, ограничения его свободы) возникает в обществе, где образование игнорируется или переориентируется на производство различий. Если представлять, что на месте каждого чиновника может оказаться дьявол (то есть тот, кто своей нечестностью или некомпетентностью может нанести вред системе), то, естественно, надо всеми способами ограничивать его свободы. Регламентировать, связывать сдержками и противовесами, ставить под контроль народа, что в результате повышает комплексность и дает возможности оппортунистического поведения, симуляции деятельности, перекладывания ответственности и проч. При этом предположение «потенциального вреда» действует как самосбывающийся прогноз: чем больше мы предполагаем в чиновнике потенциального дьявола, тем больше мы громоздим сдержки и противовесы и тем больше реальных дьяволов получаем. Обратная стратегия состоит в том, чтобы предполагать (или сформировать) в каждом ангела и, наоборот, давать ему максимум ответственности и свободы (как говорили греки: «честным людям не нужно много законов»). Православие родилось и действует в рамках стратегии: «воспитай святого и полностью доверься ему». Для него существенны воспитание и образование. Бюрократическое же государство возникает в рамках стратегии: «воспитай различных и ограничивай их, не давай им ничего сделать». Православие в принципе не понимает, зачем плевать на воспитание, мучить систему образования реформами, плодить дьяволов, а потом не доверять им, придумывать, как с ними бороться («борьба с коррупцией!») и как их ограничивать («власть под контроль народа!»), если лучше с самого начала все внимание отдать образованию, чтобы воспитывать святых, а потом, наоборот, облачить их полным доверием и властью, убрав лишнюю регламентацию и сделав невозможным оппортунистическое поведение. Естественно, что настоящая бюрократия с недоверием относится к православному типу святости, который рассматривается не как абсолютный, а как один из возможных, рассматривается как одно из многих различий (опасное еще и тем, что выдает себя за единственное), а то и вообще как нечто симулированное. Такой подход говорит больше о том, кто смотрит, нежели о наблюдаемом, говорит больше о постмодернистской бюрократии, чем о православии. Имеющийся же в России ренессанс православия скорее способствует дебюрократизации. Там, где православие проникает в государство, оно отменяет рациональное поведение бюрократа (которое в данных условиях может привести только к оппортунизму) и заставляет принимать решение по совести, вне рамок инструкций и полномочий. Благодаря таким (и иным) внесистемным стимулам система что-то вообще делает, а не работает вхолостую, не является чистым симулякром.
Иным внесистемным стимулом может быть действие «по справедливости», новую теорию которой сам Ашкеров развивал в одноименной книге.
Бюрократия идеально соотносится с экспертократией. Эксперты возникают там, где уже велика комплексность системы, они есть те, кто спекулирует на комплексности, как бы упрощая ее, чтобы затем снова породить. В обществе, живущем по совести или по справедливости, вообще там, где есть простая ясность самого глубокого и великого начала, никакие эксперты не нужны. Собственно, эксперты спекулируют на тяге к простоте в условиях сложности.
Во всех великих исторических обществах (например, в Древнем Китае, Древнем Израиле, Древней Греции) правили не эксперты, а поэты, пророки, святые и философы, и была система, которая их систематически порождала. Современная система производит различия (информационный мусор) и специалистов по его упаковке и утилизации (экспертов). В противном случае общество задохнулось бы от отходов собственной жизнедеятельности. Когда Платон говорил, что государством должны управлять философы, то это было не просто лоббированием интересов определенной профессии или личными амбициями. Реальное управление есть управление в отсутствие регламентации и в кризисной ситуации. Греческие философы в полисах воспитывали философов и вручали им власть, а не громоздили законы и инструкции, они знали: в каждый отдельный момент управления каждая отдельная голова примет именно в данный момент нужное и правильное решение, лучшее, чем некий общий закон или инструкция. Если они не смогут принять этого лучшего решения, то значит, вообще не сможет никто.
Заменить человека в управлении функцией, регламентизировать и кибернетизировать деятельность управленца – это утопический проект по превращению человека в машину и по постановке машины над человеком. Чем более этот проект осуществлялся в истории, тем дальше от власти оказывались философы. Сегодня, в экспертократической бюрократической системе, этот проект не просто умер, он мумифицировался (мумия есть симулякр), а затем еще и зомбировался (зомби – искусственно оживленные мертвые). Система изображает то, что отменяет. Сегодня, в эпоху крушения экспертокартии, есть шанс на инставрацию философского управления.
Текст Андрея Ашкерова – не текст «эксперта по проблеме управления знаниями», который надо прочитать. Вам встретился текст философа, поэтому будьте готовы мыслить!
Олег Матвейчев,
кандидат философских наук
Отсюда постоянная подозрительность интеллектуалов в отношении друг друга: продался? стал разменной монетой? лакействуешь? Эту повсеместную и бессубъектную подозрительность питает простое убеждение, выступающее следствием чудовищной обездоленности: не продаваться нельзя, невозможно не продаваться.
Это создает огромный соблазн, связанный с переводом деятельности философа или социогуманитарного мыслителя на язык маркетинга и конкуренции. Подобного рода «перевод» составляет единственное, что вычитала у французского социолога Пьера Бурдье немногочисленная кучка его местных последователей – в итоге получилось, что Бурдье с его анализом символического производства не методолог экономизма, а его идеолог. В этой ситуации дорога любая попытка [например, вот эта: http://chtodelat-info.livejournal.com/26053.html] поставить вопрос о взаимоотношениях между профессионалами знания как вопрос теоретической дискуссии и концептуального оппонирования, а не как вопрос о межвидовой экономической борьбе (скажем, между «философами» и «социологами»).
Примечательно, что инициируется подобное смещение акцентов не правыми (неоконсервативными) теоретиками, а адептами левой мысли, которые в нынешних условиях оказываются более озабоченными превращением интеллектуальной автономии в стратегию социального противоборства. Экономико-центристское восприятие межвидовой борьбы мыслителей мгновенно превращает вопрос об интеллектуальной автономии в вопросы цеховой солидарности, корпоративной этики и личного успеха. При этом отдельным вопросом является, насколько вообще уместна греза об этой автономии, контрастирующая с ее реальностью в виде всевластия администраторов-идеологов и администраторов-академистов.
Именно поэтому, собственно, в наших условиях нужна работа, противоположная той, которую произвел Бурдье: вместо обозначения того, что теория или репутация – это «тоже бизнес», нужно исследовать возможности науки и символического капитала в ситуации гиперкапитализма, когда провиденциальным смыслом наделяется само существование денег («Бабло победило зло!»).
Именно этот момент не учитывает марксова критика товарного фетишизма, в соответствии с которой отношения между вещами рассматриваются как иллюзорное отображение отношений между людьми. Отношения между людьми как носителями мифологизированной Марксом «подлинной природы» имеют не менее фетишистское происхождение. Любая апелляция к природе неизменно выступает проявлением фетишистской установки. Так, Ричард Рорти, переводящий интуиции основоположника марксизма в формат теории философского прагматизма [Рорти Р. Философия и зеркало природы. Новосибирск, 1997], недооценивает тот факт, что, отказывая сознанию в функциях «зеркала природы», мы вместе с зеркалом «разбиваем» и саму природу, существующую лишь в качестве его отражения.