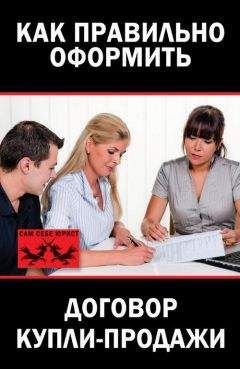— Как Никита Сергеевич перенес ваш отъезд?
— Стоически. Это ударило по нему рикошетом, задело осколками. Гришин, первый секретарь МГК КПСС, публично назвал меня подонком, мое имя убрали из титров всех фильмов. Никите снимать не запрещали, но маму, например, не выпускали за границу. Она много работала над французскими переводами, а в Париж поехать не могла. Потом все-таки разрешили в расчете, что мама уговорит меня вернуться. Но я знал: это уже невозможно.
— К вам подкатывались на Западе с предложением о каких-нибудь политических заявлениях?
— А кто мог это сделать? Володька Максимов был умным человеком и не стал бы предлагать подобное. Мы любили друг друга, всегда встречались, когда я приезжал в Париж. Шел к Максимову, преодолевая в себе липкий страх «совка», поскольку понимал, что за ним наверняка приглядывает КГБ. Он же издавал журнал «Континент», руководил антикоммунистической организацией «Интернационал сопротивления»… Не меньшие проблемы с советской властью были и у Эрнста Неизвестного, с которым я тоже дружил. В ночь после его знаменитой ссоры с Никитой Хрущевым на выставке в Манеже мы вместе ходили по Москве, пили водку, разговаривали, я смотрел на Эрнста как на бога и понимал, что не смогу поступить, как он. Для этого нужно быть человеком, которому нечего терять, а я не чувствовал в себе готовности лечь на амбразуру. Все-таки помнил об определенных обязательствах перед семьей. И в Америку не собирался уезжать, меня вполне устраивала парижская жизнь, я мечтал снимать авторское кино в Европе, обожал Годара, Трюффо… Собственно, сценарий был готов, мы с Фридрихом Горенштейном написали его еще в Москве. В 78-м меня включили в жюри Каннского фестиваля, и я обо всем договорился с французскими продюсерами. Речь шла о фильме с Симоной Синьоре в главной роли. Мы с ней много общались. Она уже здорово пила, по слухам, пристрастившись к вину из-за романа ее мужа Ива Монтана с Мэрилин Монро. Симона подарила мне свою книгу, мы обсуждали детали будущей работы и ждали, пока продюсеры соберут недостающую сумму денег. Оставалось найти сравнительно немного, когда пополз нелепый слух, будто я агент Лубянки. Известная фигура во французском кинематографе Тоскан дю Плантье, который должен был помочь финансами, так отреагировал на мои слова, что я не в восторге от последних фильмов Тарковского. Он-то боготворил Андрея и считал, что не любить того могут лишь завистники и эмиссары КГБ. А мы уже почти не общались с Тарковским, в последний раз виделись двумя годами ранее в Канне, где я передал ему устную просьбу Андропова вернуться в Советский Союз. Об этом меня попросил Сизов, директор студии «Мосфильм». Мол, Юрий Владимирович гарантирует, что Тарковского не будут удерживать в стране: пусть лишь приедет и обменяет синий служебный паспорт на красный общегражданский. Андрюшка спросил меня тогда: «А что это ты шлешь приветы от КГБ? Сам работаешь на органы?» Сказал в шутку, но мысль, очевидно, запала. Андрей находился в ужасном моральном состоянии, он сжег мосты, к нему не выпускали из СССР близких, и, конечно, это сказывалось на настроении, отношении к окружающим. Тарковский был очень нервным, хрупким, ранимым… Словом, закончилось тем, что дю Плантье не дал несчастных полмиллиона франков на мой фильм. И Симоне Синьоре напели что-то в уши. Когда мы встретились вновь, она вела себя совершенно иначе, сомневалась, сможет ли сняться у меня. В результате я не поставил фильм и уехал в Голливуд. Там никто не ждал меня с распростертыми объятиями. Три года сидел без работы, перебивался лекциями по кино, чтобы выжить, торговал черной икрой, которую привозил из Москвы. Для ее покупки составлял письмо на бланке «Мосфильма», мол, в советском консульстве в Сан-Франциско готовится прием делегации и требуется три килограмма белужьей. С сопроводительной бумагой беспрепятственно пересекал таможню… Полукилограммовой банки хватало на пару месяцев спокойной жизни. В Нью-Йорке продавать икру мне помогал Милош Форман.
— Создатель «Полета над гнездом кукушки» брал процент с реализации или расплачивались с ним натурой, готовым продуктом?
— Милош уже был богат и ни в чем не нуждался. «Кукушка» — это 1975 год, а первая снятая им в США картина «Отрыв» не преуспела в прокате, хотя и получила специальный приз жюри Каннского фестиваля. Замечательный, очень смешной фильм в духе чешской «новой волны»! Он не пошел в Штатах именно в силу гениальности. Американцы не сумели оценить юмор европейца. Форман долго пребывал в депрессии, года полтора не выходил из дома. Он жил тогда в Бруклине с Иваном Пассером, коллегой и таким же политэмигрантом из Чехословакии. Потом уже пришла всемирная слава. Мне Милош помогал по доброте душевной, мы были давно знакомы. В Лос-Анджелесе моим икорным «компаньоном» стал продюсер «Полуночного ковбоя» Джерри Хеллман. Он распространял деликатес среди обитателей Малибу, включая Барбру Стрейзанд, большую поклонницу икры. Вот Джерри я всегда оставлял баночку в качестве презента. Сколько мы с ним водки выпили… Замечательный человек!
— Долго вы так жили, Андрей Сергеевич?
— Года два. Калифорния — рай для нищих и бездомных. Все, что нужно, — сэндвич за полтора доллара, чистая майка, белые штаны да ветер в ширинку. Вокруг пальмы, океан у ног и полное ощущение счастья… Но и в самые трудные времена я не хотел возвращаться в СССР, ни за что не променял бы пустой кошелек на пригласительный на парад на Красной площади. Даже на трибуну Мавзолея. Предпочитал компанию голливудских неудачников, среди которых, к примеру, числился Монте Хеллман, позднее ставший продюсером «Бешеных псов» Квентина Тарантино и председателем жюри Канна. Я с удовольствием общался с Монте. Ему тоже было интересно со мной: единственный русский режиссер в Голливуде, невиданный зверь! Но я-то хотел не тусоваться, а снимать кино. Студенческая свобода хороша в двадцать лет, у меня же за плечами были победы на международных фестивалях, имя, которое знали в Европе. Когда совсем впал в отчаяние, позвонил в Нью-Йорк Форману: «Милош, напиши бумагу директору 20th Century Fox. Тебе же ничего не стоит! Обладателю «Оскара» не откажут». Он откликнулся: «Конечно, Андронку! Но ты сильно не надейся. Это не Советский Союз, здесь режиссер авторитета не имеет». Милош оказался прав: его рекомендательное письмо я отправил во все концы, но не получил ни ответа ни привета. Голливуд живет по своим правилам.
— А Ширли Маклейн могла замолвить словечко?
— Не просил ее ни о чем. Я ведь приехал из Советского Союза и привык платить за женщин. Да и не обладала Ширли возможностями помочь начинающему режиссеру. Тогда это было по силам, пожалуй, лишь Марлону Брандо и Элизабет Тейлор. Это первое. К тому же мы встречались, когда я не знал американской жизни и не смог бы ничего о ней снять. Картины эмигрантов не работают… Я писал для Ширли сценарии, рассчитывая запуститься в Англии, но мы быстро расстались. Прожили год в любви, потом начались ссоры, и я ушел.
— Никита Сергеевич рассказывал, что навещал вас тогда в Штатах.
— Да, приезжал тайком. Он входил в советскую делегацию, посетившую Лос-Анджелес. В тот момент мы с Ширли находились в Лас-Вегасе, где у нее были гастроли. Я послал Никите билет, и он прилетел на ночь — так, чтобы никто из коллег не узнал. Мы пошли на шоу в казино, Ширли пела и танцевала, мы с братом увлеклись текилой, продолжив гулять на вилле. А в доме стеклянные стены и бассейн под окнами. Вдохновленный спиртным Никита разделся донага, разбежался, чтобы прыгнуть в воду, и… со всего маху влетел лицом в стекло. Не заметил его! Стекло оказалось прочным… Через пару часов под глазом у Никиты сиял огромный фингал. Чтобы не отстать от делегации, в шесть утра он вылетел обратно — с тяжелым похмельем и синяком вполлица… Брат смешно рассказывает, какой фурор произвел на завтраке в отеле, появившись там во вчерашнем смокинге с бабочкой и объяснением, что поскользнулся утром в ванной.
— Вы впервые тогда встретились после паузы?
— До того виделись в Нью-Йорке, куда Никита прилетал опять-таки с делегацией. Открывалась неделя советских фильмов, на которую я пришел и, не скрывая садистического удовольствия, сел в первый ряд, чем вызвал легкий шок среди членов президиума на сцене. Люди боялись посмотреть в мою сторону, отводили глаза. Привычный страх советского человека… Потом мы с Никитой выскользнули из кинотеатра и пошли в ближайший бар. И мне, и ему было тяжело. Я не хотел жаловаться на жизнь, и он тоже…. Встреча почти без слов, когда из-за тоски и безысходности невозможно выразить свое состояние. От того свидания осталось ощущение, будто старший брат просит младшего заботиться о родителях…
— От вас соотечественники долго шарахались, словно от прокаженного?
— По-разному. Помню, как-то катал по Лос-Анджелесу Эльдара Шенгелая, показывал, как звонить в Тбилиси из уличного автомата. Немыслимый аттракцион для человека из СССР! А вот Элем Климов, в начале перестройки возглавивший Союз кинематографистов и привезший в Голливуд очередную советскую делегацию, сказал режиссеру Норману Джуисону, что уйдет со встречи, если на нее позовут Кончаловского. Элем испытывал ко мне глубокую неприязнь, которую я не мог объяснить. Джуисон звонил тогда с извинениями, просил меня не приходить. Конечно же, я пришел. И не один, а с великим Билли Уайлдером, создателем легендарных фильмов «В джазе только девушки» и «Квартира», обладателем шести «Оскаров». Увидев Элема, я прямо спросил его, что он имеет против меня, и Климов сделал удивленные глаза… Через несколько лет я вернулся в Москву, мы встретились в союзе на Васильевской, и я сказал: «Элем, хочу снять фильм о Рахманинове». Он ответил: «Прекрасно! Снимай. В Америке». Я чуть со стула не рухнул… Намного позже мне рассказали о причине нелюбви Климова ко мне. Увы, все банально: пошлая советская сплетня. Элему нашептали, будто я возражал против награждения картины Ларисы Шепитько, его жены, на Берлинале. Глупость полная, но он поверил…