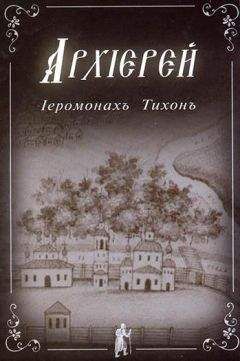И так далее. Бесконечная цепь обвинений — монотонных, зудящих и нудных. Изредка лишь — лирическая вставка, способная слегка повеселить, — и то больше своими орфографическими неожиданностями:
«И вот какой унас в станичном правлении свилси клубок ни похош ли он настарое провительство протопопова штюрмера и александра федоровна Николай 2-й тожа хволил етих лиц атакже Сухомлинова аштожа оказалося»?..
В заключении своего «донесения» глазуновский исполнительный комитет, утеряв нужный тон революционного негодования, «просит», как в заурядной кляузе старого порядка, о ниспровержении «старой власти»…
«За написанием настоящего донесения, просим областной временный исполнительный комитет сейчас же удалить от должности станичного атамана, должность поручить помощнику станичного атамана Сухову, удалить также заседателя г. Рубцова и всех должностных лиц, именно помощника станичного атамана г. Шурунова, общественных доверенных казаков Мохова и Быкадорова, стражника Ветютнева, охотничьего наблюдателя Фирсова, счетовода общественной кассы Сухова, сторожа при правлении Федора Фирсова. К сему донесению урядник Иван Ананьев, Дмитрий Шурунов, неграмотный казак Тимофей Котеляткин, урядник Климент Мирошкин, Иван Давыдов, Яков Попов, Василий Донсков, Петр Рогачов, Иван Шкуратов, Лука Алаторцев, урядник Семен Кудинов».
Подмахнул бумагу полный состав временного станичного правительства. Как уже было выше упомянуто, почти за каждым из этих лиц в прошлом было «претерпение»: урядник Иван Ананьев претерпел за вымогательство и лихоимство, другие — кто за кражу, кто за «захват» чужой собственности и проч.
Но обыватели, хотя и переименованные в граждан, были настольно озадачены и оглушены внезапностью переворота, что лишь с умеренным ропотом вслух приняли на свои рамена это новое иго и заговорили об избавлении от него лишь тогда, когда стало невтерпеж, когда исполнительный комитет начал упражняться в административном творчестве. А начал он лишь тогда, когда областной исполнительный комитет, ничтоже сумняся, признал факт возникновения исполнительного комитета в Глазуновской станице за достаточно законный предлог, чтобы вступить с ним в письменные деловые сношения. Этого и было достаточно, чтобы вчерашние стражники, взяточники и воры почувствовали себя полновластным начальством, призванным «по-новому» вершить общественные и частные дела в станице…
Немалого удивления достойно, что «страна великого молчания» ныне без удержу говорит, говорит и говорит. Можно сказать, утопает в безбрежности разговоров. Миллионы голосов сотрясают воздух — порой увлекательно, язвительно умно, дельно, но больше — бестолково, пустозвонно, нудно или с тупым и темным озлоблением. Пустословием, как шелухой семечек, засыпано все, начиная с церковных папертей и кончая платформами глухих полустанков.
И, правду сказать, что-то потеряла родная страна, вступив на путь безвозбранного многоглаголания. Чувствовалось в великом безмолвии ее глубокое и значительное: сосредоточенность замкнутой мысли, затаенная боль трагической судьбы, неразгаданная загадка сфинкса. А вот заговорила — и угасло очарование загадочности: слова известные, потертые от времени и частого употребления, иной раз — чужие, непродуманные, взятые напрокат. И громче других — не те, в которых звучит боль и забота о родной стране, а те, в которых преобладают мотивы собственной шкуры и собственного корыта…
Несколько раз проехал я по России за последние месяцы. Пришлось путешествовать в очень разнообразных условиях и порой в оригинальной обстановке. Не ехал лишь на крыше вагона, но на буферах и в кочегарках пришлось ездить, в теплушках — тоже. Приобрел навык проникать в вагон через окно, когда двери забаррикадированы солдатскими мешками и телами. Сутками сидел на станциях, лежал на платформах вместе с мужиками и бабами, разыскивавшими, где купить хлеба. Приходилось ночевать и в реквизированных казенных учреждениях, спал на тюках бумаг, являвших собой делопроизводство не каких-нибудь там старых канцелярий, а самого Совета рабочих депутатов… Словом, вкусил меду от свободного передвижения по «свободнейшей в мире республике»…
И всюду я имел неизменное удовольствие слушать и слышать свободные речи свободного российского гражданина, уста которого недавно еще казались прочно запечатанными. Каких только схваток и столкновений я не видел, каких споров и суждений не слышал! Были ослепительно блестящие планы перестройки всего мира; были робкие вздохи о том, чтобы сохранить то, что есть, не ломать старенькое, а осторожненько, с рассмотрением, бережно починить его; были буйные, озорно гогочущие призывы «взять», и были степенные, но и твердые разводы в тех смыслах[7], что взять — не штука, а вот как распределить без обиды, без греха?
— Как бы промежду себя ножами не перерезаться…
Когда я, усталый и измученный, укладывался спать на делопроизводстве Совета рабочих депутатов, передо мной стоял вольноопределяющийся в лакированных гетрах, с бритым пухлым лицом и утиным носом и обстоятельно излагал мне свой план освобождения всех арестантов из тюрем.
— Свобода должна быть светом всему человечеству, исключений быть не должно…
Через три дня я прочитал в местной газете, что мой собеседник (фамилию и полк его я хорошо запомнил) изобличен в провокаторстве…
И почти все, что я слышал, казалось мне чем-то ненастоящим, не своим, не очень серьезным. В речах, по внешности горячих, со слезой и скрежетом, в ругани, в ожесточении споров было больше спортивного азарта и напускного задора, чем подлинного огня, больше театральности, чем нутра, больше фразы, только что где-то ухваченной и немедленно пущенной в оборот, чем продуманной и выношенной в себе мысли.
И ни у кого не чувствовалось настоящей, сектантской веры в свои собственные призывы, планы и положения. И было очевидно, что для слушающей серой массы грядущее рисовалось смутно и загадочно. Хорошо-то оно хорошо, но как еще выйдет в конечном итоге? А пока — лучше всего, по-видимому, цыганский метод применить. Цыган говорил: «Кабы я был царь, украл бы сто рублев и убег бы…» Недурно бы сорвать что-нибудь в таком роде и — к сторонке…
Горизонт революционных мечтаний в народных низах за излишним простором не гнался.
— Земля? Да будет у меня земля — стану я тут, около паровоза, мазаться? Да сделайте ваше одолжение, ни одна собака на нашей работе не останется!..
— От земли и в шахту, например, вряд ли охотники полезть найдутся!..
— Ну, как же тогда? Всем дай земли, а в шахту некому?
— В шахте машина должна работать… Машиной!
— А чего ты там машиной наколупаешь?
— Чудак, машины такие есть… она тебе успешней человека наколупает.
— А почем тогда уголек обойдется?..
Не помню где, на платформе какой станции происходил этот диспут, — может быть, в Льгове, может быть, в Радакове, на курской ли, или на харьковской территории — не помню: все слилось в одну картину. Кучи лежащих и сидящих солдат, мужиков, баб. Шелуха подсолнушков. Груды людей — здоровых, рабочих, изнывающих от безделья и жаркой истомы, от скуки и безнадежного ожидания чего-то никому неведомого. И похоже, что никто не может понять, дать себе отчет, зачем и почему он лежит в вынужденной праздности здесь, в чужом, незнакомом месте, без дела, без смысла, без радости, неумытый, полуголодный, одуревший от сна?.. Кругом — поля, простор зеленый, сизая бархатная зыбь по ржи, белые церковки на горизонте. И сердце тянется воспоминаниями и мечтой к родному углу… Давеча какой-то жидкий паренек в длинной, мудреной речи, с дрожанием в голосе, глухом, замогильном, доказывал преступность аннексий и контрибуций. Его слушали молча, с тупой сосредоточенностью, глядя под ноги и в поле. Бог весть, какие мысли бродили в головах под мужицкими картузами и солдатскими фуражками, — никто не возразил, никто и не поддакнул…
А сейчас говорят все разом, попросту, без ученых слов: закоптелый смазчик, лакей с серебряными усами, хромой парень с тростью, мужик в сермяжном пиджаке и полосатых портах, солдаты, старик-слесарь из ремонта. Не очень толково, не очень последовательно, с подковырками и наскоками, но оживленно и рьяно.
— Ну хорошо — земля. А что ты будешь с землей делать? — спрашивает мужик в сермяжном пиджаке, и в пегих, выгоревших от солнца усах его змеится тонкая улыбка.
— С землей? С землей что буду делать? А ты не знаешь, что с землей делают? То самое и буду делать, что ты делаешь…
— Да ведь к земле приложение надо иметь. Ты думаешь, голыми руками ее возьмешь, кормилицу? Голыми руками, милый, с ней делать нечего. Лошадку надо иметь, да телегу надо, да плужок, да борону… Всякое приложение. Все это надо заготовить, милок!