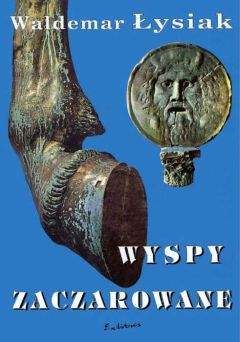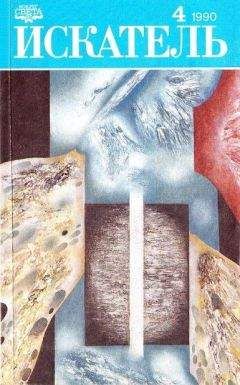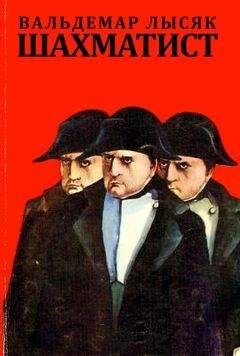— У меня имеется международная карта особых привилегий. (Интересно, существует ли вообще нечто подобное?)
Девушку эти слова и смена языка явно застали врасплох: она автоматически отвечает по-французски и впервые улыбается.
— Покажите, пожалуйста.
Открываю бумажник и сую через отверстие в ажурной решетке цветную бумажку. Кости брошены, ведь в моей руке банкнота в пять тысяч лир. Как она примет это? Оскорбится или нет? Итальянка взяла бы, не колеблясь, но что сделает эта малышка? Мне кажется, что тишина растянулась на века, начинаю краснеть, но внезапно банкнота мягким движением вынимается у меня из руки и исчезает в кармане фартучка. Через мгновение я уже на другой стороне ворот. Победа!
Благодарность не подавляет во мне мыслей о том, что девушка кошмарно легкомысленна, потому что жадная — купит себе новую блузку или галстук своему «ragazzo»[4]. Через несколько месяцев мне стало известно, что из венецианской коллекции Гуггенхейм воры украли семнадцать шедевров — боюсь предполагать, что легкомыслие девушки могло иметь с этим нечто общее. Но виновата не только она. В то время, когда перед кражами произведений искусства, проводимыми, без преувеличения, в «оптовом» масштабе, не могут защититься даже самые охраняемые музеи, и когда директор Королевского Музея в Амстердаме утверждает, что «существует лишь один хороший способ — нужно возле каждой картины поставить охранника с автоматом» — на страже бесценной коллекции оставили горничную!
Ведя меня по зеленой аллее, девушка говорит:
— Если бы Мадам узнала, я бы потеряла работу.
— Мадам не узнает, она же не ясновидящая.
— Откуда вы знаете, — милым смехом отвечает француженка, — а вдруг она такая?
— Тоже не бойся, я — волшебник и защищу тебя от твоей Мадам.
«Мадам» — это знаменитая собирательница, Пегги[5] Гуггенхайм, которая начала собирать произведения современного искусства в тридцатых годах, а в 1938 году открыла в Лондоне свою первую картинную галерею («Guggenheim Jeune»). Ее дядя, основатель крупного нью-йоркского музея, Соломон Гуггенхайм, не разделял этих авангардных влюбленностей, поэтому, когда племянница написала ему из Лондона, что может продать ему прекрасный холст Кандинского, он воспринял это в качестве безвкусной шутки, более того — как оскорбление. Сюрреализм, дадаизм, кубизм, экспрессионизм и т. д. для него неизменно были шарлатанством — разъяренный тем, как племянница «полощет» родовое имя, он на долгие годы прервал с ней какие-либо контакты.
Пегги не сильно этим обеспокоилась и продолжила систематическое увеличение коллекции. Прекрасную оказию ей подарило нападение Гитлера на Францию. Тогда она находилась в Париже и, в соответствии с постановлением, каждый день покупала по картине или скульптуре. «Парижане распродавали все и смывались», — так она впоследствии прокомментировала неожиданный бум для собственного лобби. Она еще успела отослать в Штаты забитые шедеврами кофры, а затем сама поспешила за ними. В 1942 году она открыла в Нью-Йорке галерею «Искусство текущего века», развешивая картины без рам, на свисающих с потолка шнурах. Критика восприняла это с энтузиазмом. Когда разросшийся вокруг Манхеттена мегалополис надоел Пегги, она сбежала (1947 год) в полярно отличающуюся обстановку — в Венецию. Поселилась она в небольшом дворце восемнадцатого века на Большом Канале и здесь же разместила свою коллекцию (1951 год). Толпам она показывала ее два раза в неделю, и так оно и повелось, хотя сама она в шестидесятых годах вернулась на родину, и лишь время от времени посещает «жемчужину Адриатики» — как и сейчас, когда я нахожусь здесь. Дядюшка покинул земную юдоль, так что у нее появилась возможность перенести сто двадцать пять из двухсот шестидесяти шести собственных шедевров в нью-йоркскую «кругляшку» Райта, в знаменитый Музей Соломона Гуггенхайма. Американская критика захлебывалась от похвал, утверждая, коллекция является «не только блестящей визуально, но представляет собой величайшую художественную ценность, одновременно являясь монументальным документом исторического масштаба». Сто тридцать восемь объектов осталось в Венеции в качестве фонда этой королевы маршанок[6].
В саду стоит каменное кресло.
— Мадам любит фотографироваться в нем, — говорит моя «cicerone»[7]1. — В последний раз она снялась здесь с четырьмя тибетскими терьерами.
Вот оно как. ОТ вех других семидесятилетних женщин «Madame» отличается тем, что, кроме мохнатых песиков она обожает еще и авангардное искусство. «Chapeau bas!»[8]
Я поглощал все то, что находится внутри дворца, внутри сада и внутри залитого зеленью застекленного павильона. Шагалл, Дельво, Модильяни, Клее, Кандинский, Брак, Леже, Гриз, Мондриан, Миро, Дали, а из скульпторов Мур, Дакометти и Марини. Моя спутница без малейшего смущения рассказала мне, что возле стоящего между дворцом и садовой стеной «Ангеле цитадели» Марино Марини охотнее всего и дольше всего задерживаются дамы различного возраста, и если никого не видят поблизости — делают фотографии. Обнаженному всаднику с раскинутыми руками, который не управляет своим конем, направление, словно дорожный знак-стрелка, указывает его значительной величины пенис.
Сам я дольше всего задержался перед Пикассо. Как будто что-то чувствовал, блефуя у ворот. Наполненные желто-зелеными оттенками «Девочки, играющиеся лодочкой», написанные в 1937 году[9]. Они обнажены, части их тел, это геометрические глыбы, образующие анатомическое сплетение Пикассо. Что это означает? Имеется ли в этом символ или только какая-то секунда жизни, о которой великий Пабло говорил: «Меня интересует всякий аспект, всякое явление, всякое мгновение жизни». Я не боюсь не понимать этого, поскольку он говорил еще и следующее: «Если я сам не могу понять всех значений своих картин, то как же человек, который на них глядит, может узурпировать право на расшифровку того, что я сам предчувствую лишь интуитивно. От тех, кто глядит на мои картины, я требую лишь одного: чтобы они испытывали то же самое волнение, которое подтолкнуло меня к созданию этого произведения». Я чувствовал, что этот человек имеет право требовать, и испытывал вонение, поэтому исполнил акт поглощения картины самым оптимальным образом, пользуясь сердцем и чем-то, что является душой, исключая при этом мозг, рационализм и настырность в установлении значений был бы для меня сейчас помехой[10].
Глядя на «Девочек с лодочкой», я подумал, что верховный жрец искусства ХХ века столь чудесно писал женщин, от проституток до собственных жен, от «Девушек из Авиньона» до эротических рисунков, которые во многих странах (например, в Бразилии) конфисковывались как порнография — ибо он их имел столько, поскольку не представлял жизни без них, поскольку они были его жизнью более, чем что-либо иное. Словно Хемингуэй — он мог быть собой, будучи великим любовником, а время возвеличило его до ранга патриархального Сатира. Первая большая любовь Пикассо, модель Фернанда Оливье, сказала о нем после расставания: «Славу Дон Жуана он ценил выше славы великого художника».
Как правило, людям не слишком важно то, что у них уже есть, а скорее, то, в чем они абсолютно уверены. В отношении собственной славы у Пикассо не могло быть никаких сомнений — подобной славы перед смертью не испробовал ни один художник в истории искусства (другое дело, что она смогла расцвести только лишь благодаря условиям и возможностям ХХ века, с его массовыми тиражами журналов и выстроенным рынком произведений искусства). Что же касается собственной мужественности, в ней он не всегда был уверен на все сто.
Итак, вначале была натурщица, художники часто начинают с этого.
В один из осенних вечеров года 1904 от Рождества Христова Фернанда укрылась от непогоды в наиболее знаменитом на всем Монмартре богемном заведении, «Бато-Лавуар», где уже пару лет вегетировал Пикассо. Друг с другом они прожили восемь лет, бурных, как та стихия, что загнала ее тогда под крышу. Помимо него, она существовала тогда благодаря сигаретам, чаю и чтению книг. Он — благодаря своим «периодам». Расставаясь, они поделили нажитое: лежанку, печку, тазик и одноногий столик в стиле Второй Империи. Перед тем, как умереть (1966 год), она все это описала.
Во времена «кубистической революции» Пикассо познакомился с Гертрудой Стайн, первой крупной сторонницей его творчества, которая шептала: «Мой маленький Наполеон!» Но это не она заменила Фернанду, но таинственная Марсель (1912 год), которую он называл Евой, и с которой перебрался на Монпарнас. Он так никогда и не написал ее портрета, зато внутри различных картин помещал ее имя («Ева, моя красавица»). Через четыре года ее забрал туберкулез.