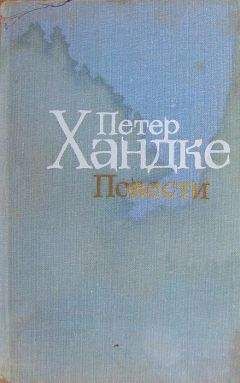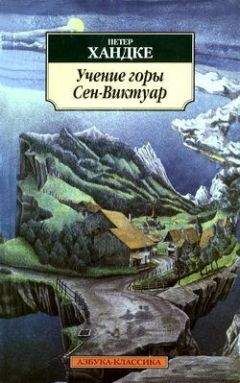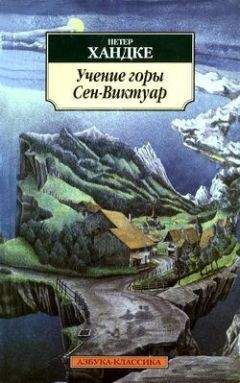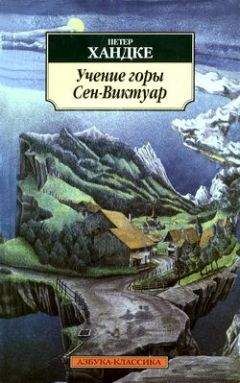Невзирая на точность реалий, хандковская Америка — это прежде всего нечто непохожее на ненавистную герою и от него неотторжимую Австрию.
Непривычное существование в непривычной позиции сдвигает героя относительно среды и возвращает ему его прошлое, то историческое состояние, которое начисто отсутствовало у Блоха. Он часто видит мир своего детства, видит с такой потрясающей ясностью, что ему начинает казаться, будто происходившее некогда «не воскресает, а… только в воспоминании впервые и происходит по-настоящему». Это значит — он оттаял, стал внутренне свободнее, открылся навстречу жизни; через прошлое — и настоящему, и будущему.
Благополучный конец этой повести Хандке сам определял как «сказку». Да и весь строй книги — своего рода сказка: и хандковская Америка, и вездесущая Юдит, способная не только организовать ограбление мужа ватагой мексиканских мальчишек, но и проникать в гостиничные номера для устройства хитроумнейших на него покушений. Однако сказка здесь лишь форма утверждения истины, погребенной под безотрадными реалиями, — истины, что человек может быть человеком и что он имеет на это право.
К той же теме — хоть и совершенно с иного конца — Хандке подходит в книге» «Нет желании — нет счастья» (1072), правдивой истории его матери.
В пятьдесят один год она, приняв большую дозу снотворного, покончила с собой. И сделала это в момент, когда для ухода из жизни не было (по крайней мере внешне) таких уж серьезных причин: и тяжелая нужда ушла в прошлое, и невыносимые головные боли ее оставили. Хандке захотелось написать о ней, показать, объяснить ее судьбу — такую тривиальную и такую неповторимую.
Судьба эта заквашена на бедности — вековой, традиционной — и на упрямой крестьянской привычке копить про черный день, копить слепо и покорно, даже посреди катастроф рушащегося старого мира.
Но по-настоящему непоправимое началось — как это ни парадоксально — тогда, когда острая послевоенная нужда сменилась относительным достатком (частично опиравшимся на помощь, которую оказывал матери преуспевающий писатель Хандке). У матери появилось свободное время, однако было непонятно, что с временем этим делать. Она научилась говорить о себе, тем самым выделяя себя из некой однообразной, темной анонимности; она читала книги. «Правда, читая книги, — рассказывает Хандке, — она воспринимала их как рассказы о прошлом, никогда — как мечты о будущем; она находила в них все то упущенное, что ей уже никогда не наверстать. Сама она давно уже выбросила из головы любое будущее». Как отмечает на страницах «Иностранной литературы» советский критик Н. Павлова, в «Нет желании — нет счастья» Хандке «описал казус несостоявшегося, неосуществленного человека…».
Уже само по себе примечательно, что он взялся за книгу документальную и что он впервые открыто и прямо обращается в ней к проблематике социальной, обусловливает судьбу матери обстоятельствами ее рождения и существования.
Проще всего было бы сказать, что это еще один шаг по пути реализма. Дело, однако, в том, что такой шаг Хандке сделал еще в «Страхе вратаря при одиннадцатиметровом». И я постарался раскрыть историю Йозефа Блоха в качестве истории социально обусловленной. Различие между обеими историями — матери и Блоха — не в сути, а в характере, в форме подачи. Здесь — целая жизнь в ее развитии, во всяком случае в движении, изменении, там. как я уже говорил, — конечный результат некоего жизненного процесса и еще тот крохотный обломок тверди под ногами, который оставляет герою теснящий его социум. Какая из этих форм лучше, сказать трудно. Та, что в «Нет желании — нет счастья", привычнее.
Но ее продуктивность всегда зависит от конкретного авторского замысла.
В жизнеописании матери Хандке волновала не только сама эта жизнь; поскольку он знал ее в таких подробностях и так хорошо чувствовал, он надеялся нащупать в ней механизм взаимодействия частного и общего, характерного и типичного.
Давление среды, которое испытывала мать, обезличивало, навязывало смирение перед неизбежностью жить как все. «Обретя типичность, — поясняет Хандке, — человечек избывал свое позорное одиночество и изолированность, он, с одной стороны, лишался личностных черт, с другой — все-таки становился личностью, хотя и на время». В этих условиях личность (даже если она «не состоялась» вполне) означала сопротивление анонимному, превращалась в носителя «человеческого». Однако и выламывалась из всеобщности, утрачивала в своей неповторимости показательность, поучительность.
Сложность этой диалектики преломляется у Хандке в трудностях писания, сочинительства. Он указывает на них в перемежающих изложение сюжета и заключенных в скобки автокомментариях. Хандке начинает под конец рассказывать о себе больше, чем о матери. Он остается в какой-то мере неудовлетворенным и завершает книгу словами: «Когда-нибудь я напишу обо всем этом подробнее».
Не знаю, вернется ли он еще к теме матери, но к теме женской эмансипации, женского самоопределения в общей и менее личной форме он действительно вернулся. Это его повесть «Женщина-левша» (1976). Ей, однако, предшествовало другое произведение, продолжавшее линию «Страха вратаря» и «Короткого письма». Я имею в виду повесть под названием «Час подлинных ощущений» (1975).
Референту австрийского посольства в Париже Грегору Койшингу приснилось, что он совершил убийство на сексуальной почве. Сон — так чувствует Койшинг — приоткрыл истинное его естество. Герой и наяву ощущает себя убийцей старухи, вынужденным скрывать свое преступление. Будто что-то сместилось в нем, сломалось; одним ударом довершился длительный процесс его отчуждения и от семьи, и от службы, и от всего ближнего и дальнего окружения.
Главная забота Койшинга в те двое суток, на протяжении которых развертывается действие книги, — скрыть случившееся, сыграть роль мелкого посольского чиновника (в его обязанности входит выбирать из французской прессы и систематизировать все касающееся Австрии), сыграть роль мужа и отца, сыграть роль любовника. Однако сдвиг, происшедший в его сознании, да еще помноженный на натужное усилие делать вид, будто ничего не произошло, вносит в игру фальшивые ноты. В результате жена от него уходит, любовница от него отказывается, дочку он теряет на улице. И только посол не замечает в нем перемен, не распознает его двойной жизни, потому что служба его и всегда-то была рутиной, посредственно исполняемом ролью.
Новая ситуация заставляет Койшинга увидеть мир, Париж совсем иначе, чем прежде: «Со времени последней ночи… нечто остановилось. Оно было неразличимым, и он мог лишь от этого «нечто» отвернуться. Быть во что-то посвященным казалось теперь смешным, быть принятым назад казалось немыслимым, к чему-то принадлежать равнялось аду на земле». Жизнь открывается Койшингу в каком-то беспощадном, обнаженном снеге, но и в своей беспорядочности, осколочности, незавершенности. «Кто-то уронил наземь связку ключей. Потом какая-то элегантная женщина поскользнулась и уселась на собственный зад; но он не смотрел, как обычно, мимо, он наблюдал, как женщина вставала со смущенной улыбкой». Интересно, что Койшинг разрываем тем же противоречием, которое мешало работе автора «Нет желаний — нет счастья»: то ему хочется затеряться в толпе, то он страшится этого.
Хандке — об этом он рассказал в интервью критику ФРГ X. Л. Арнольду — начинал писать повесть от первого лица, но у него ничего не вышло. Герой не мог быть писателем, ибо писатель всегда с профессиональным интересом смотрит на то, какой чуждый и отвратительный мир открылся его глазам. Герою надлежало быть обыкновенным человеком, насильственно втянутым во всю эту историю. Но и не совсем дураком, то есть чем-то средним между Блохом и героем повести «Короткое письмо» (подобно первому, он читает газеты, подобно второму — Генри Джеймса). А в друзья ему, даже в своего рода двойники, автор дает австрийского писателя-толстого, неопрятного, но умного. Тот ощущает мир почти как Койшинг и оттого понимает, что с Койшингом творится. Писатель этот — и копия автора, и одновременно карикатура на него.
То, что видит Койшинг, — это перевернутый, искаженный мир современного Запада. Но именно потому это и вполне реальный в своем лихорадочном беспокойстве Париж. Не только благодаря точной топографии, точным чертам быта или пресс-конференция президента, на которой герой по долгу службы присутствует. Как раз излом в восприятии героя и придает всей картине неподдельную внутреннюю достоверность. Вместе с Койшингом мы совершаем «путешествие на край ночи» модерного, позднебуржуазного бытия.
Но в отличие от декадентско-циничного «путешествия па край ночи», в которое некогда отправил читателя своего романа Луи Фердинанд Селин, мы из него возвращаемся. Возвращаемся не только обогащенные опытом, а и в чем-то просветленные.