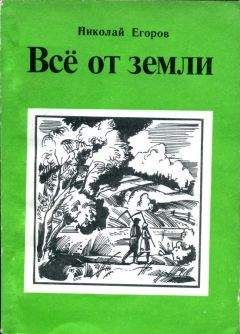— Так ее, Аверьяновна, — вышел из горницы Петр, поправляя на ощупь галстук.
Минушка шагнула в сторону, чтобы не застить свет, и скрупулезно и долго разглядывала Некорыстина.
— Нарядный. Как Фисуненко из телевизера.
— Ничего ты меня воспроизвела, — смутился Петр и принялся снова за галстук.
— Да не мучь ты его, не мучь, не строй интеллигента из себя, — не вытерпела Галина. — Все равно на спине будет, пока до города едешь по нашему асфальту.
— В Фонд, значит, твердо намерился?
Петр кивнул.
— Тогда вези и мою долю. Поживется — накоплю еще, а не успею, так наверху все равно не оставят и, может, хоть этим помянут.
Минушка подала Петру сторублевку, подала свернутый солдатским треугольничком тетрадный листок, посмотрела на крюк в потолочине, на котором висела когда-то керосиновая лампа, а теперь электролампочка. У Галины навернулись крутые слезы, слышала она эту ее историю с похоронкой. Выдвинула ящик кухонного шкафа и, не оборачиваясь, тоже подала мужу пачку денег.
— Может… не все?
— Да ладно уж. Чего их делить…
— Ох и советская ты старуха, Аверьяновна, — обнял ее Петр.
— Вот и ладно, езжай.
— Ульяна Аверьяновна! Постой. Будут, спрашивать, от кого и кто ты такая, что сказать?
— Там написано.
И тихо прикрыла за собой дверь.
Написано было простым карандашом, коряво и с ошибками, но удивительно верно выражено каждым словом с большой буквы:
От Смирновых Из Добренки от Убитого На Войне Василия и Вдовы Его Ульяны В Фонт Мира Просим Принять.
Четвертую весну затаенно, из последних сил ждали конца войны, но когда он наступит, не дано было знать никому, и неумолимый лозунг «Все для фронта, все для победы!» до салютных залпов сурово и обыденно висел над каждым станком, над каждым крестьянским возом, над каждой головой. Аховое время — война.
И, отчаявшись перемочь это время и выжить, пришел и Ваня Потапов к директору рыбзавода с заявлением.
— Да миленький ты мой, да напринимала уж я вас, больше некуда, — не читая, положила перед собой бумажку женщина-директор. — И рыбак — работа взрослая, невод — не удочка. Годков-то хоть сколько нам?
— …надцать, — проглотил парнишка первый слог, и соврать не смея, и не решаясь сказать правду несовершенных лет своих.
— Надцать, надцать… Ну что мне с тобой делать? — И повернула к себе заявление. — «Прошу принять в какую-нибудь артель, так как чтобы… не умереть с голоду».
Состонала по-бабьи, задохнулась и прикрыла хрустким листком дрогнувшие губы, сдерживая непосильную жалость.
— Ладно, беги к дедушке Максиму, пусть к себе в бригаду коноводом зачислит. И дополучит на тебя, что по норме положено. Понял? Так и передай: я велела. Беги, а то не застанешь.
На календарях исходил на нет апрель. Солнышко ленилось вставать, и мозглый морозец глумливо защипывал носы, выдавливая из них светлые капли. Несло поземку. Перепадал снежок. К ночи стужа, ветер и снегопад усиливались, и метель с бураном до утра крутили холодную любовь. Ни в сети, ни в невод даже хозяйскому коту полакомиться не попадало ни рыбешки, и артельные квартиранты, спосылав вниз по матушке по Волге туды такой промысел и всю небесную и земную канцелярию, повально долускивали вместо семечек конскую пайку овса, разбавляя пожиже тягучую скуку побывальщинами.
— Но-ка, давайте спать, растрепались, — на самом смаке перебил бригадир очередного рассказчика.
— А ты мне рот не загораживай, командир выискался. Тут не армия тебе, распоряжаться «подъем», «отбой».
— Спать, сказал. Завтра, чуть свет, на Алабугу двинем. Ни процента плана еще не дали — и похохатывают, нигде у них не свербит.
— Ты зато в коросту весь изодрался, загонял уж по этим озерам.
— Ну, повякай, повякай, заводь один будешь рубить.
Это считалось страшней войны, и в притихшей избенке мигом потух свет.
Тонкий и серый и твердый, как мрамор, наст на голых равнинках свободно держал подтощавших лошадей. Кованные полосовым железом полозья оставляли едва заметный чиркающий след, и рыбацкий обоз, короб к коробу, с посвистом и гиком лавинно катился широким фронтом, срезая окольный путь.
— Партизаны. Ох, и партизаны. Совсем облесели, язви их, — ворчал Максим, грозя кому кулаком, кому пальцем. — Агафон! Я тебе дам, Хоттабыч. Кому сказал, положи кнут! Ишь, развоевался участник Куликовской битвы.
Мертвенно синюшное озерко с мелкую тарелку еще и щетинилось жухлым камышком вдоль кочковатого берега и поэтому вовсе казалось болотиной, промерзшей до дна, но дед-бригадир уверенно вышагнул из персональной кошевки, сунул кирку за опояску, выпростал и кинул на плечо пешню.
— Все. Приехали. Ваня! Распрягай, сынок, начинай помаленьку. Распрягай, корми, готовь стан. Остальные — за мной. С инструментом.
— Так что… это и есть Алабуга? Ну и лужа…
— Да кобыла больше напрудит. А ты не ошибся, товарищ рыбный нарком? Похоже, тут вовсе никакой путины ждать нечего.
— Вам, может, и нечего, а у меня отсюда их две, этих самых путины: либо — на плаху, либо — на икону.
— Тогда уж просись на малую: за большой иконой больше грешат.
А лед не давался. Набухший и вязкий, он только белел вокруг острия пешни. От тупых и бесполезных ударов сушило суставы, подкашивались ноги, немела душа и безвольно опускались дрожащие руки. И провались он, этот план, которого не дано пока ни процента.
— Досидитесь, ой, кажется, досидитесь, наставлю всем по прогулу, — пробовал уж и стращать их бригадир.
— Да ставь хоть по два!
Высокая сознательность у бригады проявилась вдруг и без всякой политподготовки, когда счерпали крошево с проруби и из воды лупоглазо уставилась на них скуластая морда килограммового окуня-горбача с раскрытой от удивления розовой пастью.
— Живем. Есть рыба.
Да, невод шел с большой рыбой. И каким-то удивительным чутьем чуя это, из еле видимой деревушки пробирались к рыбакам ребятишки, кто с котелком, кто с миской. Подходили. Столбенели, как вкопанные, и не мигаючи зарились на треугольник выводной проруби, из которой тянулись, тянулись и тянулись крылья невода с застрявшей в ячейках мелочью, а суматошный дед в шапке набекрень бухал, как заводной, надтреснутым ботом, пока не закипела вода от кишащей рыбы.
— Агафон! Тащи сюда уши.
— По секрету, что ли? — неторопко подошел к бригадиру Агафон, важничая как самый старший по возрасту.
— Да секрета особого нет, но говорящий — сеет, слушающий — жнет, а жнецов тут вон сколько, — кивнул на ребятишек. — Навыбирай, какая покрупнее, полный мешок — и на моей кошеве езжай в деревню. Понял?
— А как же: доразу. Провианту баш на баш выменять.
— Да, борода у тебя — хоть в патриархи всея Руси, а ум — псаломщика. Провианту у нас теперь вон сколько, да лошади ж рыбу не едят, их сеном или овсом кормить надо. Теперь понял?
Проездил Агафон до вечера, но вернулся ни с чем.
— Сами соломой с пригонов тянут, пропади она пропадом и весна такая! Решай, Максим. Ой, решай, ты бригадир.
— Решение одно: ехать. Лошади запряжены, рыба в коробах. Обратно в озеро не выпустишь. И на лед вывалить — голову снимут, если дознаются. Так ничего и не добыл?
— Да… С ведро картошки и отрубей вот мешок у председателя колхоза ихнего. А сена так и не дал, холера.
— Деда Максим, деда Максим! Да скорее сюда, дедушка-а-а, — по-детски взахлеб заплакал на своем возу коновод Ваня Потапов.
— Чего ты? Чего там еще?!
— Лысуха жеребится. Прямо в оглоблях…
— Тьфу, пропасть, приспичило ей. Распрягай! Все распрягайте. Все!
Жеребеночек родился весь в мать. И мастью, и коленкорово-белым рисунком во всю мордочку от лба до ноздрей.
— Это ж надо было так лить и капать природе! — дивился присутствующий при факте Максим, обнаруживая новое сходство.
Дождался, когда мать обиходит сына, помог подняться на слабенькие ножки, подтолкнул к вымени. Но оно было пустое. Жеребеночек сунулся к соску, сунулся к другому, сердито крутнул хвостиком, поддал вымя мордочкой и, не устояв, ткнулся передними коленочками в подталый снег и обреченно лег плашмя, судорожно вздрагивая всем тельцем.
— Да чтоб ему ни дна, ни покрышки, этому Гитлеру! И животные от него по всей России страдают.
К костру Максим вернулся, не глядя ни на кого.
— Вот что, мужики… Слушать сюда всем! Выдраить с песком казаны из-под ухи, чтобы рыбьим духом и не пахло. Это раз. Два: у кого есть ножи — резать, у кого нет — руками рвать камыш и траву по кустам, мельчить и запаривать с отрубями. Сам сдохну, а ни плану, ни коням, ни жеребеночку новорожденному погинуть не дам. Невод и прочую прихиметрию отвезти и сдать на хранение под расписку председателю колхоза — три. И собрание считаю закрытым.