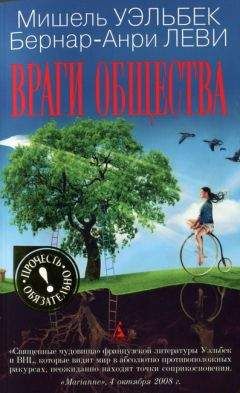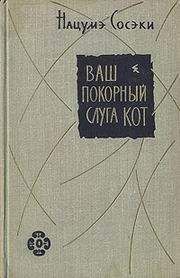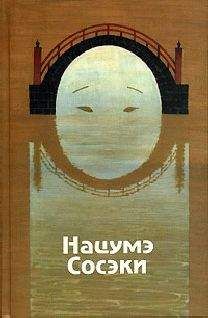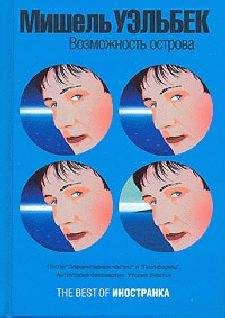Впрочем, простите, я, кажется, излишне разволновался.
Я опять в Нью-Йорке, дорогой Мишель, и сижу сейчас в гостиничном номере. В гостиницах я теперь чувствую себя лучше всего (точнее Пруста не скажешь, о Кабуре ли речь или другом каком городе, но только в гостинице тебя «не побеспокоят»).
Я размышляю над вашим письмом и думаю, как на него ответить. Для меня это всегда непросто.
Не знаю, как для вас.
Мы с вами не беседуем с глазу на глаз, и как вы мне отвечаете, я не знаю.
Я, например, получив от вас письмо, всегда медлю день или два.
Читаю его, перечитываю.
Ищу нужный угол зрения, точку отсчета.
Нащупываю, в чем мы сходимся, что нас разделяет, что сближает на поверхности, но разделяет изнутри, — словом, определяю наши взаимоотношения.
Пытаюсь понять, что в конечном счете для человека главное — то, что он обнаруживает, или то, что прячет; то, что говорит, или то, о чем умалчивает. Что по сути представляется в нем самым интересным.
Пробую себе представить, насколько это возможно, что вы мне ответите на мой ответ и что я вам потом отвечу.
В сущности, пытаюсь понять, как подойти ближе и не перекрыть потока, заострить интерес, не погасив его, как побежать вперед, не лишив вас возможности перехватить мяч и ринуться дальше.
Я писал вам, что любил играть в шахматы.
Но, кажется, не говорил, что много играл заочно, как тогда говорили, «по переписке». Так мы играли в клубе при нашем лицее — интернета тогда не существовало, — я продумывал очередной ход, записывал и посылал письмом. Потом ждал ответа от партнера. Партия могла длиться не одну неделю, а случалось, что и не один месяц. Марсель Дюшан обожал игру по переписке и, бывало, играл годами, а я в те времена восхищался всем, что делал Марсель Дюшан. (В последние годы он даже выставки готовил по переписке, отправляя из Нью-Йорка в Париж распоряжения своей сестре Сюзанне, и та выполняла все его предписания. И то же самое с шахматами. Свои самые чудесные шахматные партии — с Мэном Реем, Анри-Пьером Роше, Франсисом Пикабиа — он сыграл заочно, соперничал, не вступая в контакт, не касаясь и пальцем, зная, что и его «не побеспокоят»…)
В общем, я обожал играть в шахматы по переписке.
Обожал, думаю, по той же причине, что и Дюшан, ощущая это не столько соперничеством, сколько игрой, не столько состязанием, сколько возможностью изобретать и придумывать вместе, в общем, работой ума с вопросами, ответами, противоречивыми эмоциями, перекличками, озарениями, то общими, то только своими, с виртуозностью, искусными ходами и обманами.
Думаю, удовольствием, какое я получаю от нашей переписки, я отчасти обязан прошлому, хотя и воодушевлению спора тоже, и нашим исповедям, и подначкам, которые толкают нас обоих копаться в забытых тайниках. Нравится мне и таинственность нашего приключения, ведь мы по-прежнему продвигаемся вперед, прикрывшись масками, не открывая никому, какую провозим контрабанду. (Кстати, о скрытности — я вам как-то говорил, что умолчание — одна из необходимых составляющих писательского ремесла, говорил о «страсти к переодеваниям и маскам», которую наш дорогой Бодлер поставил во главу угла литературной этики, а совсем недавно я нашел стихотворение Брехта, написанное во времена восходящего гитлеризма, восхваляющее работу в подполье. Стереть все следы, затаиться, размножить личины, забыть о себе, утратить имя, а если и этого будет мало, нанять, подобно Аркадину, биографов и поручить им уничтожить свидетелей жизни, которая была лишь недоразумением и должна исчезнуть[87].) Да, конечно, все значимо для меня, и все же ощущение вернувшегося прошлого придает особый вкус нашей переписке, я с необычайным вдохновением обдумываю каждую «атаку» и так нетерпеливо жду вашего отпора. В детстве и юности нескончаемые шахматные партии кружили мне голову. Голландец Ян Тимман, чемпион мира, называл шахматы «интеллектуальным боксом» и подчеркивал, что дерешься с самим собой и с пределами своих возможностей…
И вот я читаю ваше очередное письмо.
Спокойно и вдумчиво перебираю ваши доводы, размышляя, с какого начать…
Может быть, с «религии без Бога», но разве я за нее ратовал? В лучшем случае за нее ратовал Вольтер, в худшем — Моррас[88], но уж точно не я.
Или с вашего мнения о Канте, который, по вашим словам, вечно пребывал в «разреженном воздухе вершин» в своем Кёнигсберге? Ну, во-первых, это не совсем так. Легенду эту нам подарила Жермена де Сталь, рассказав, мягко скажем, о Канте весьма неточно в последней части своей книги «О Германии». В юности Кант учительствовал сначала в семье пастора Андерша, потом у Кейзерлингов, сначала в Юдшене близ Гумбиннена, потом в Остероде. Но не это главное. Куда существеннее другое: представляя себе Канта непоколебимым, точным как часы, неуклонно следующим режиму, маниакально аскетичным, закованным в броню императивов, абстракций и бесплотных концепций, вы совершенно игнорируете одну из его ипостасей, полную смятения, безумия, даже шизофрении, которая и стала причиной, вернее, одной из причин его жажды сковать себя железными оковами мысли. «Категории разума» — та же смирительная рубашка, защита против урагана идей, противоядие против теософии, оккультизма, спиритизма, которые влекли к себе юного Канта и о чем мы забываем. Остаток своей жизни он провел, обороняясь от соблазнов, боясь их возвращения.
Несколько обобщающих слов. Хоть вы и не «знаток философии», по вашему мнению, но у вас есть свобода обращения с ней, которой я завидую. Вам ничего не стоит сообщить, например, что «Шопенгауэр считает…», «Ницше ему ответил…» или «доказательства Спинозы относительно того и сего кажутся мне неопровержимыми, потому что»… Для философа-профессионала такое немыслимо. Тем более для такого твердолобого, как я, приученного к тому, что каждая философская доктрина есть закрытая целостная система. И нет ничего более опасного, чем вычленять из системы какую-то часть, изолировать, наделять собственной судьбой, присваивать, одним словом, цитироватъ! «Ни единой плавающей мысли!» — таков был первый урок Жака Деррида новому поколению учеников Эколь Нормаль, которых, словно новобранцев в армии, называли «призывниками». Но скажу без кокетства, что дорого бы дал, лишь бы избавиться от своего профессионализма… «Никаких философских выдержек, оторванных от контекста! Никаких „Гегель, или Хайдеггер, или Гераклит говорит, что…“»! Ибо вне контекста, и даже больше, вне языка оригинала, смысл этой выдержки искажается, а то и вовсе исчезает! (Вы не преминете с упреком напомнить мне, что и я предлагал вам свой спинозо-левинасовский двигатель, монадологию без монад, мою концепцию субъекта. И будете правы и не правы. Тогда я мастерил. Выстраивал собственную позицию. И боюсь, вынужден был играть навязанными мне фигурами. Правила цитирования — это совсем другое. Как и удивительная способность видеть философскую систему полем свободных высказываний и не менее свободной игрой ассоциаций. Повторяю, я был бы в восторге, сумей я обрести такую способность…)
Огюст Конт, похоже, заворожил вас, тогда как я, с большой настороженностью относясь к его обещаниям преобразовать общество с помощью науки, вообще им не интересовался. (Впрочем, нет… здесь я ошибаюсь… Стоило заявить «никогда», и я тут же вспомнил о ниточке между мной и Контом, точнее, между Контом и моим поколением, ниточка эта — Альтюссер. Альтюссер в своей знаменитой статье «За Маркса» объявляет, что на протяжении ста тридцати лет после Великой французской революции 1789 года философия во Франции пребывала в жалчайшем состоянии, он щадит только одного мыслителя, Огюста Конта, считая, что среди французских философов он один достоин интереса. Альтюссер сочувствует Конту и потому, что тот всю жизнь был жертвой ожесточенных нападок, «став живым подтверждением безграмотности и бескультурья, доставшихся нам в удел». К тому же Альтюссер так похож на Конта, похож по-человечески, у них столько общего. Безумие… Большие дозы нейролептиков… Вместо Эскироля — Дяткин[89]… Оба писали книги без предварительного чтения, без выписок, только по памяти, пылким пером… И религиозность тоже… У одного вначале, у другого в самом конце, и у обоих после смерти возлюбленных — Элен и Клотильды де Во[90]… Оба еще больше Канта боялись перемен и путешествий… Зато писали письма… Письма лились потоком, страстные, нервозные, параноидальные, адресованные крупнейшим мыслителям своего времени, которых они считали мятущимися душами, томящимися в ожидании истинной позитивистской веры… Умершие еще при жизни… Узники собственных книг… Научный подход стал для них смирительной рубашкой… Если Альтюссер походил на кого-нибудь, если с кем-то себя сравнивал, то конечно же с Огюстом Контом, который вывел закон трех стадий интеллектуального развития. Как мы не заметили этого при жизни Альтюссера?! Как нам, его ученикам, не бросилось в глаза это очевидное сходство?)