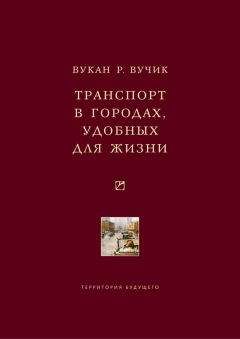Уроки мы с Янкой обычно делали вместе, у нас. Во-первых, рядом со школой, а во-вторых, никого дома нет: отец на работе, мать в гостях у родичей. Не могу припомнить, чтобы мы при этом обедали, видимо, жизнь и в самом деле вели спартанскую. И все-таки, сменив трехкомнатную квартиру с ванной в г.Бытоме на эту варшавскую конуру с замерзшей канализацией, я была счастлива, ведь это Варшава. Как я ее люблю, я поняла в те жуткие дни, когда мы с улиц Груйца в безмолвном отчаянии наблюдали зарево над горящей Варшавой.
В сорок седьмом отец продал наш земельный участок в деревне. В стране был принят закон, запрещающий горожанам иметь собственность еще и в деревне. Человек должен жить или в деревне, или в городе, а не тут и там одновременно. Да и Тересе одной было не справиться с сельхозработами. Напоследок я побывала в нашем «поместье». Оказывается, местное население разворовало все: и сетку, окружающую участок, и беседку на нем, и даже сарай, разобрав по досточке. Зато сад разросся, и вот его было жаль. Но другого выхода не было, землю мы продали, отец мог, наконец, рассчитаться с еще довоенными долгами, и осталось на покупку квартиры.
Это была не совсем покупка, просто покупать новые законы тоже запрещали, пришлось оформить как передачу нам квартиры ее прежним владельцем-шапочником в счет ремонта помещения. Счет за ремонт составлял сорок тысяч злотых, отец заплатил двести тысяч, и все равно это была самая выгодная сделка в его жизни. Хотя квартира не была уж такой хорошей. Во-первых, она была коммунальной, во-вторых, стены комнат почему-то окрасили в яркий ультрамариновый цвет, от которого болели зубы. И в-третьих, на квартиру давно нацелился проживающий в том же доме адвокат, который собрался вывести нас на чистую воду и оттяпать квартиру.
Тут мне придется немного отвлечься и поговорить на политические темы. В отличие от матери, отец положительно воспринял установившийся в Польше государственный строй и вступил в ПСП (Польскую Социалистическую Партию). Мать очень этого не одобряла. Как-то, когда мы еще проживали в больничной одиночке, к нам в комнату без стука явился какой-то коллега отца по партии. Мать уже лежала в постели и читала книгу, я делала за столом уроки, отец тоже чем-то занимался. Бесцеремонный коллега, не постучав, не поздоровавшись, не извинившись, грубо обратился к отцу:
– Почему вас не было на собрании?
Отец открыл было рот, чтобы ответить, но взглянул на мать и не ответил. Я тоже взглянула. Она уже садилась в кровати, одновременно замахиваясь книгой. Очень характерный жест, мы с отцом прекрасно знали, что он означает.
Была у матери такая привычка – бросаться вещами. Всем, что под руку попадет. С детства знакомая мне привычка. Помню, еще в Груйце она свирепствует, а мы с отцом спешно стараемся убрать у нее из-под рук всевозможные предметы, лихорадочно перешептываясь:
– Нет, это можно оставить, железное, не разобьется.
Вот и теперь, не ответив коллеге, отец быстренько развернул его лицом к двери и вытолкал из комнаты. Книга ударилась о закрывшуюся дверь. Скандал разразился, когда вернулся отец, выпроводив своего невоспитанного коллегу.
Я унаследовала от матери эту черту. В конце концов, не швырнула бы я тогда в одноклассника чернильницу, если бы не дурной пример матери.
Не думайте, что я уклонилась в сторону без всякой уважительной причины. Нет, очень даже уважительная в связи с нашим переездом на новую квартиру. Переехали мы на Аллею Неподлеглости зимой, темнело рано. Меня оставили сторожить новую, еще пустую квартиру, я не пошла в школу, сидела на подоконнике и смотрела в окно. После работы отец приехал с вещами, появились родичи и Янка, мы собирались устроить небольшой прием по случаю новоселья. Мать распаковывала у окна, где было еще светло, большую коробку с пирожными. И тут в квартиру ворвался подстерегающий нас адвокат.
Ворвался с криком и начал скандалить. Поносил нас последними словами, называл мошенниками и преступниками, упирая главным образом на то обстоятельство, что в квартиру, где он собирался устроить свою контору, мы явились тайком, под покровом ночной темноты, пробираясь поодиночке. Адвокат разорялся все сильнее, и тут я перехватила тот самый, знакомый жест матери. Она собиралась запустить в скандалиста нашим десертом! Я крикнула «Папа!», отец обернулся, все понял в мгновение ока. Ни слова не говоря, он развернул адвоката к двери лицом и вытолкнул его взашей. Пирожные были спасены, а темпераментный адвокат отказался от своих притязаний.
В квартире шапочника пришлось делать дополнительный ремонт. Его ванная, например, служила складом дров, водопроводные трубы проржавели, в окнах не хватало стекол, а двери не закрывались. Ну и страшные синюшные стены снились по ночам. Однако все это были мелочи. По сравнению с одиночной больничной камерой новая квартира представлялась прямо-таки королевскими палатами.
Вскоре после новоселья я опять не пошла в школу. Дело в том, что отец поехал с работы на грузовике в Бялобжеги за картошкой для всех сотрудников и вместе с грузовиком пропал на целых три дня. Мать потеряла голову и велела мне отправляться его искать. Интересно, где искать и как я могла это сделать? Бестолково бродила я по улицам города, ибо мать истерично гнала меня из дома, и я не знала, как ее успокоить. Я сама не очень беспокоилась. В конце концов, отец поехал не один, с ним было еще несколько сотрудников, а грузовик – не иголка, так просто не потеряется. Через три дня они и в самом деле вернулись живые и здоровые и даже картошку привезли. Оказывается, вышел из строя двигатель и не так просто было его починить. Спорить с матерью, я знала, бесполезно.
Вообще следует удивляться тому, как я смогла закончить школу.
Училась я всегда хорошо, так хорошо, что окончательно избаловала родных и они перестали видеть в этом мою заслугу. Никто не заботился о том, сделала ли я уроки, не надо ли помочь. Впрочем, я сама в этом виновата. Как-то раз – было мне лет двенадцать – мать опрометчиво поинтересовалась, сделала ли я уроки, когда я попросила разрешения пойти погулять.
Я смертельно обиделась.
– Как ты можешь об этом спрашивать? Разве был хоть когда-нибудь случай, чтобы я не сделала уроков? Разве хоть раз были из-за этого неприятности? Уроки – мое личное дело, и нечего другим в него вмешиваться!
Мать признала свою ошибку, попросила извинить ее и больше никогда не вмешивалась. Но тем самым я навесила на себя цепи рабства.
Не было дня, чтобы мне не помешали делать уроки. Начиналось, как правило, с хлеба. Сижу я за столом, занимаюсь.
– Прогуляй собаку, – говорит мать. – И заодно посмотри, привезли ли свежий хлеб.
– Не привезли, – отвечала я, ибо всем прекрасно было известно, в котором часу его завозят после обеда. Но с собакой выходила.
Булочная находилась в нашем же доме, только с другой его стороны. Свежий хлеб завозили между тремя и четырьмя, об этом знали окрестные жители и быстро его раскупали, так что не рекомендовалось зевать. Но ведь сейчас было всего два часа, о каком хлебе может идти речь?
Возвращаюсь, опять сажусь за уроки. Через полчаса мать говорит:
– Иди за хлебом, наверняка уже привезли.
– Нет, еще не привезли! – отвечала я, но приходилось вставать и идти в булочную, чтобы убедиться – действительно, еще не привезли хлеб.
Возвращаюсь, сажусь за прерванные уроки. Мать говорит:
– Я забыла купить сметану. Сходи купи и заодно погляди, не привезли ли хлеб.
Иду, покупаю сметану, возвращаюсь, сажусь за уроки. Позаниматься смогла минут двадцать, не больше. Мать заглядывает в комнату и говорит:
– Яйца кончились, надо сходить купить. И заодно посмотри, наверное, хлеб уже привезли.
Скрежеща зубами, я отправилась за яйцами.
Потом я, наконец, отправлялась за хлебом и покупала его, а потом вдруг выяснялось, что опять нужна какая-то мелочь – соль, укропчик, стиральный порошок. Нет, в те времена еще не было стиральных порошков. Ну, значит, что-нибудь в этом роде. Не было случая, чтобы мать велела мне купить сразу все необходимые продукты. Нет, она посылала за каждым отдельно. Когда я, доведенная до белого каления, яростно спрашивала, что еще надо купить, она каждый раз уверяла, что больше ничего не требуется.
Как-то она велела мне пойти и купить горшок для фикуса. Продавались они в магазине на Раковецкой. Горшок был большой, мать дала на покупку сто пятьдесят злотых. Не помню, почему у меня в тот момент не было собственных денег, поэтому я попросила дать мне больше – а вдруг горшок стоит сто пятьдесят пять злотых.
– Нет, он стоит ровно сто пятьдесят.
– Ну так знай, если окажется, что он стоит дороже, я второй раз туда не пойду!
– Он стоит ровно сто пятьдесят! Отправляйся же! Горшок, чтобы черт его побрал, стоил, конечно же, сто пятьдесят пять злотых. На этот раз у меня не было никаких предчувствий, видимо, проходя мимо, я мельком взглянула на цену и запомнила – сто пятьдесят пять.