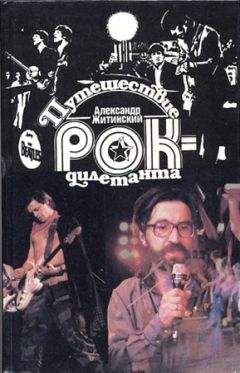Часто передвигаясь пешком, царь содержал множества колесниц и саней, окованных серебром, обитых бархатом и соболями. Седла, сбруя, стремена блистали золотом, изумрудами и яхонтами…
У дворца была сооружена статуя Цербера — «превелик зело, имеющ у себя три главы»— с медными челюстями, которые открывались и закрывались. На суеверных москвичей чудище производило гнетущее впечатление. Недаром позже летописец заметит, говоря об этом страже адских ворот, что сей фигурой царь как бы «предвестил себе жилище в вечности: ад и тьму кромешную»!
Но об аде и тьме он думал меньше всего, он хотел жить радостно и щедро, не замечая грани между щедростью и расточительностью.
Вспомним неумеренные дары, посланные Марине. Огромные суммы идут и Мнишеку и его сыну.
Купаются в щедротах и вечно милые сердцу русских царей иноземные наемники.
Три капитана возглавили три гвардейские сотни — неунывающий француз Маржерет, ливонец Кнутсен и шотландец (или голландец?) Ван Деман.
Сверкая оружием, выбивая подковами ледяные искры, скачут московскими улицами нарядные всадники на сытых конях. В руках бердыши с золотыми орлами на древках, с золотыми и серебряными кистями. Маржеретова сотня в бархатных кафтанах, обшитых золотым позументом, кавалеристы Кнутсена в фиолетовом, с красными бархатными шнурами, третья сотня в зеленом…
Все это стоит дорого.
Очень дорого. Иные наемники даже в банях пользуются серебряными тазами.
Вспомним Басманова:
— Лучшего царя у нас нет…
Конечно, те, кому достались тазы, довольны.
А вот те, что получают семь рублей в год, конечно, — нет.
Стрельцы.
Они и через сто лет будут недовольны, когда выступят против Петра. Так уж сложился быт этого оседлого воинства. На жалованье не проживешь, приходится держать скот и огороды. Хозяйство, понятно, связывает, кому же охота идти в дикую степь, оставив жен и капусту на грядках! Мало ли что в капусте сыщется.
В унынии собираются, пьют водку, злятся. Создается заговор.
Особенно активничает тот самый Шелефединов, что убивал Федора Годунова с матерью. Видимо, понравилось…
Восьмого января заговорщики решились. Попытались проникнуть к царю, но неудачно. Семь человек схвачены. Убийца Шелефединов успел скрыться.
Дмитрий созвал стрельцов к дворцовому крыльцу.
Стояли, переминались. Кто смотрел на царя, кто опустил голову. Молились про себя.
Царь сказал с горечью:
— Зачем вы заводите смуты? Бедная наша земля и так страдает. Что же вы, хотите довести ее до окончательного разорения?
Он и сам не знал, как близок к истине, какое разорение идет на Русь.
Потом он говорил, что призван перстом божьим, говорил убежденно, потому что верил в предназначение. Но почему же они не верят?
— Говорите прямо! Говорите свободно! За что вы меня не любите?
К такому разговору русские люди не приучены. Ордынцы и опричники воспитывали их иначе. Поэтому стрельцы поступили по обычаю, стали на колени и возвопили:
— Царь-государь! Смилуйся, мы ничего не знаем. Покажи нам тех, что нас оговаривают!
— Смотрите!
Привели семерых схваченных.
— Вот они. Повинились и говорят, что все вы на меня зло мыслите!
Вперед вышел стрелецкий голова Григорий Микулин.
— Освободи меня, государь. Я у тех изменников не только что головы поскусаю, и чрева из них своими зубами повытаскиваю!
Так повернулся свободный разговор.
Дмитрий махнул рукой и ушел во дворец.
Хлынула кровь…
Грустная победа, но все-таки большинство еще за него. Народ еще ждет, надеется на царя.
Царя и народ связывает сложная зависимость. Это мы привыкли — царь глава угнетателей! Чего проще… На самом деле в глазах народа царь над угнетателями. Они ведь сами себя называют его холопами. Когда убивали царя, Федора Годунова, народ не ликовал. Он безмолвствовал в смятении и надежде.
Что же сделал Дмитрий, чтобы оправдать народные надежды?
В сущности, очень мало.
Нам известны два указа, касающиеся непосредственно положения угнетенных.
Вспомним, крестьянство находится на пути от феодальной зависимости к полной юридической потере свободы. Неумолимо, как спрут, окутывает крепостничество народ, множится, как гидра, у которой вырастают всё новые головы, хотя и прежние не срублены, кровавые присоски истощают не просто крестьянское хозяйство, но национальную духовную почву.
Однако народ не представляет перемен в своей участи помимо царской воли и власти. Больше того, он видит в самодержавии силу, способную оградить его от произвола паразитов как высшего боярского ранга, так и множащихся кровососов — дворян. Короче, верит в хорошего царя. Взять ответственность за собственную судьбу на себя он еще не помышляет. И даже Болотников, который вскоре появится под стенами Москвы с народной армией, будет взывать к царю, на этот раз подлинному Лжедмитрию, потому что Дмитрия уже не будет.
Что же оставит он после себя, что успел сделать, что сделал?
Указы его вызывают неоднозначную оценку. Собственно, это скорее текущие распоряжения, регулирующие сложившийся порядок вещей. Они не трогают систему как таковую. Но даже подобные акты отмечают движение, вперед или назад, к прогрессу или реакции, к лучшему или худшему, к крепостничеству или свободе.
Как же эти?
«Если… люди станут брать на людей кабалы, а в кабалах напишут, что занял у него да у сына его деньги, и кабалу им на себя дает, то этих кабал отцу с сыном писать и в книги записывать не велеть, а велеть писать кабалы порознь…»
В целом же смысл этого указа ясен. Речь идет об ограничении холопства. В трудные времена беднякам приходилось закладывать себя богатым за деньги на основе кабал, документов, отдающих человека, должника, в холопство. Кабала, написанная на хозяина — отца вместе с сыном, становилась актом уже не частного, но наследственного закабаления. Холоп переходил от отца к сыну. Вот одна из щупалец спрута, захватывавшего свободу.
Указ сводит холопство к личным отношениям хозяина и зависимого человека и этим несколько ограждает жертву от спрута.
Более обширен и безрадостен указ от 1 февраля 1606 года.
Он регулирует отношения крестьян и помещиков, сложившиеся в результате голода.
Необходимо процитировать его хоть части его.
«Если землевладелец будет бить челом на крестьян, сбежавших с его земли до бывшего голода, о беглецов сыскивать и отдавать старым помещикам.
Если крестьяне бежали к другим помещикам и вотчинникам в голодные годы, но с имением, которым прокормиться им было можно, то их тоже сыскивать и отдавать старым помещикам и вотчинникам.
Если… крестьянин бежал в голодные года от бедности, было нечем ему прокормиться, такому крестьянину жить за тем, кто кормил его в голодные года, а истцу отказать: не умел он крестьянина своего кормить в те голодные года и теперь его не ищи…»
Итак, только бежавший от голодной смерти да еще способный доказать это — в указе изложена трудная процедура такого доказательства, — считается вправе начать другую жизнь.
Частным вроде бы послаблением подтверждается главное — законность крепостных отношений.
В указе есть и такая строчка:
«Если крестьяне пошли в холопи до голода, то обращаются снова в крестьянство».
Это следует пояснить. По Судебнику 1550 года крестьянин мог по своей воле перейти с пашни в холопство. Вроде бы хрен редьки не слаще, но все-таки холопство, как личная зависимость, давала иногда возможность и маневрировать. В новом указе заметно предпочтение крепостного права кабальному, договорному.
Хочется повторить печальное:
— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!
Но об этом дне в указе уже просто не упоминается, в конце подтверждается лишь постановление 1597 года: «На беглых крестьян далее пяти лет суда не давать».
Из «Русской истории» Костомарова:
«В течение одиннадцати месяцев своего правления Димитрий более наговорил хорошего, чем исполнил, а если что и сделал, то не следует забывать, что властители вообще в начале своего царствования стараются делать добро и выказывать себя с хорошей стороны».
Спорить трудно, особенно с мыслью о том, как угасают с годами власти благие побуждения властителей. Что это — усталость души, разочарование в идеалах или и не было мальчика, а были одни лживые посулы? Вопрос сложен, трудно ответить на него универсальной формулой. Каждый входит в историю со своими намерениями и своей судьбой и, даже уйдя, далеко не беспристрастно воспринимается и вспоминается. Особенно когда судьба расправляется с неудачником руками людей. Эти-то люди, убийцы, немедленно овладевают историей, и жертвы платят за неудачу не только жизнью, но и добрым именем. Разве не смотрим мы до сих пор на Петра III или убитого Павла глазами тех, кто вынес им приговор и собственноручно привел в исполнение! Хотя в делах обоих можно найти немало подсказанного добрыми намерениями.