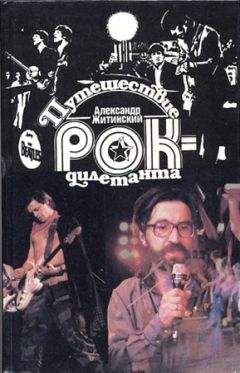Но речь о Дмитрии. Очевидно, что сколь бы мы вслед за врагами и убийцами ни клеймили самозванца, мы не в праве отрицать, что он и «наговорил хорошего» и старался «выказывать себя с хорошей стороны». Как могло продолжиться его царствование, гадать не стоит. Зато известно, как проявили себя Шуйский с компанией ненасытных, в какую пучину ввергли отечество.
Почему же они все-таки победили? Возможно, прав Карамзин, утверждавший, что «первым врагом Лжедмитрия был он сам, легкомысленный и вспыльчивый от природы, грубый от худого воспитания, надменный, безрассудный и неосторожный от счастья». Правда, грубость Дмитрия видит он в том, что царь «бивал палкою знатнейших чиновников». Любопытно, посмел ли бы Николай Михайлович упрекнуть в том же Великого Петра? Конечно, разница есть. Петр бил и добился, Дмитрий не успел.
Всего одиннадцать месяцев… Да, можно было использовать их с большей пользой. Можно было сделать меньше ошибок. Что и говорить, какому народу понравятся расточительные траты! Современники — а может быть, враги? — подсчитали, что за три месяца щедрый царь умудрился издержать свыше семи миллионов! И народ, познающий политэкономию не пытливым разумом, а многократно битой шкурой, понимал прекрасно, что царские расходы пополнить предстоит именно ему.
Однако мы видели, что народ еще надеялся и терпеливо ждал.
Не терпели обличители.
Невольно хочется сравнить эту категорию средневековых правдолюбцев с недавними разоблачителями «врагов народа». И те и другие действовали, увы, не бескорыстно, хотя и стояли на противном, облекая свои действия в тогу высоких побуждений. Однако разоблачители получали свое, как говорится, не отходя от кассы, то есть реальными тридцатью сребрениками, благами земными, житейскими, обличители же метили выше, их манили награды небесные. По-своему они были расчетливее. Не освободившаяся квартира потерявшего свободу человека, но вечная райская обитель — вот награда, их прельщавшая.
Дьяк Тимофей Осипов несколько дней говел, приобщился святых тайн и отправился.
В царских палатах в присутствии бояр он выкликнул:
— Ты воистину Гришка Отрепьев, расстрига, а не цесарь непобедимый, не царев сын Димитрий, но греху раб и еретик!
Возникла мертвая тишина.
По воспоминаниям, Дмитрий оторопел.
Обличитель спокойно ждал своей участи.
Пришел час пострадать, и он пострадал, безумца-правдолюбца велено было умертвить. Сбылась мечта…
Терпение царя лопнуло.
Карамзин:
«Самозванец, дотоле желав хвалиться милосердием, уже следовал иным правилам, хотел грозою унять дерзость».
Не так-то просто, если это дерзость камикадзе.
Вот ведут на казнь очередных обличителей — дворянина Петра Тургенева и мещанина Федора Калачника. Последний, судя по прозвищу, человек мирных занятий, вопит иступленно:
— Приняли вы вместо Христа антихриста и поклоняетесь последнему от сатаны. Тогда опомнитесь, когда все погибнете!
Предостережения, однако, отклика не находят.
— Поделом тебе смерть! — кричат из толпы.
Рядом с антихристом постоянно возникает имя Отрепьева. Никак не отмыть царю липкого, по словам Соловьева, «пятна расстриги, самовольно свергнувшего с себя иноческий, ангельский образ».
Даже кровью. Сносят одну голову, а рядом уже другая обличает. Даже те, что называют его ближайшим родичем — галицкие Отрепьевы. Дядя Отрепьев-Смирный, который еще при Годунове ездил к Сигизмунду открывать, глаза королю, теперь сослан в Сибирь, изолирована и Варвара, «добросовестная вдова» Богдана Отрепьева, погибшего в пьяной драке.
Не все, однако, подались в обличители. Например, Пафнутий, бывший архимандрит Чудова монастыря, и виду не подает, что узнал бывшего дьякона Григория, с кем многократно бывал в царской думе, а теперь, повышенный в сане, заседает в сенате.
Темна вода во облацех…
Настолько темна, что Костомаров даже собрал доказательства против Годунова и Шуйского, «провозгласивших» Дмитрия Отрепьевым.
Вот они:
За два года пребывания за рубежом самозванец не мог успеть усвоить знания и манеры образованного человека, которыми обладал.
Поведение Пафнутия и других знакомцев Григория по Чудову монастырю нельзя объяснить лишь низменными побуждениями.
Наконец, известная подлинная подпись Григория Отрепьева не совпадает с почерком Дмитрия.
Не будем, однако, углубляться в эту аргументацию. В сущности, она решает вопрос частный. Пусть не расстрига. Но кто?
Обличителям-самоубийцам кажется, что они знают, что идут на плаху во имя истины. На самом деле они таскают каштаны из огня для тех, кому блага земные стократ дороже небесных. В подходящий момент их «каштанами» заткнули рот народу, на глазах у которого убьют еще одного молодого царя, чтобы тот не «исполнил хорошего».
Безмолвие народа — его трагедия. Вместе с убитыми уходят несбывшиеся надежды. Остаются вопросы без ответов. Нет, не так уж важно, царевич сидел на престоле, или дьякон, или вовсе неизвестный человек, интереснее, важнее другое — что нес он России, что утратила она с ним? А утратила несомненно. Что принесло воцарение Шуйского? Разве желал народ гражданской войны, иноземного нашествия? Свержение Дмитрия дорого обошлось стране. Но народ допустил его. Вторично свершилось «безмолвие».
Неужели обличители убедили?
Нет, больше убеждал он сам…
Через двести лет в Эрфурте Наполеон, хозяин, как ему мнилось, судеб Европы, скажет: «Теперь я все могу!» Аналогичная фраза в устах Дмитрия нам неизвестна. А кому бы, казалось, и говорить такое, как не всероссийскому самодержцу! Где еще в одних руках собиралось столько власти? Но удивительнейший исторический парадокс заключается в том, что безграничность власти обратно пропорциональна ее реальным возможностям. Впрочем, это естественное диалектическое противоречие. Повелитель «холопов» всего лишь первый холоп. Он обречен выполнять волю сильнейших холопов или ежедневно ждать смерти от их руки. Его же собственные руки за редким исключением связаны, во всяком случае, для дел полезных. Закрепостить крестьян, то есть обратить в рабство собственный народ, оказалось царям легче, чем освободить его. Тут опускались руки почти у каждого самодержца начиная с самого Петра. И так вплоть до второго Александра, который сумел высвободить их всего лишь для полумеры.
Нам неизвестно, насколько Дмитрий ощущал свои руки связанными. Возможно, с горячностью молодости он не хотел этого замечать. Возможно, ему казалось, что, получив трон, он может все. И он не обращал внимания на то, что одним его поступки нравятся, а другим нет.
Самоутверждаясь, он не чувствовал меры, легко переходил черту допустимого и совершал такое, что не нравилось никому.
Ксения Годунова…
Древние говорили, есть люди, которые рождаются для страданий. Ксения из них. Царская дочь, которой в непродолжительной жизни предстояло пережить смерть принца-жениха, кончину отца, ужасное убийство брата и матери.
Шестнадцать лет монашества. Но и за монастырскими стенами она не узнает покоя и утешения. К стенам придет война, она переживет осаду Троицко-Сергиевой лавры, потом, в Новодевичьем монастыре, будет ограблена и унижена бандой Заруцкого.
Между дворцом и монастырем, может быть, самое худшее — дни черного позора на царском ложе.
Умрет Ксения Годунова в Суздале, не дожив до сорока.
Последняя просьба — похоронить рядом с родителями.
И это все, в чем всевышний, которому она так много молилась, пошел ей навстречу…
А пока она наложница, униженная, обреченная.
Это известно всем, и всем не нравится, хотя Пушкин и считал, что «ужасное обвинение не доказано».
Понятно, что Марине и Мнишеку не нравится особо.
Они упорно откладывают свой отъезд в Москву. Требуют устранить Ксению, о которой прослышали еще до приезда Власьева.
Последний шанс у Дмитрия? Возможно, но он не использовал его. Напротив, идет на все, чтобы брак не расстроился. Ксению отвезли во Владимир. Она пострижена в монахини под именем Ольги и сослана в пустынь. Мнишекам посланы новые дары и средства на дорогу. Последние препятствия устранены, и Дмитрий в гибельной настойчивости позволяет себе плохо скрытую угрозу.
«Вижу, — пишет он Мнишеку, — что вы едва ли и весною достигнете нашей столицы, где можете не найти меня, ибо я намерен встретить лето в стане моего войска и буду в поле до зимы».
Решительный ли тон письма произвел впечатление или сказала последнее слово судьба, но восьмого апреля 1606 года отец и дочь тронулись в путь.
К несчастью, не одни. Родственников, приятелей и слуг было с Мнишеками не менее двух тысяч. Сам воевода, его брат и сын, князь Вишневецкий и другие знатные гости взяли с собой для пущей пышности целые воинские отряды. Никто не подозревал, что скоро придется им вступить в бой на московских улицах.