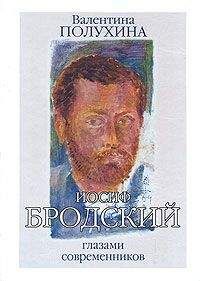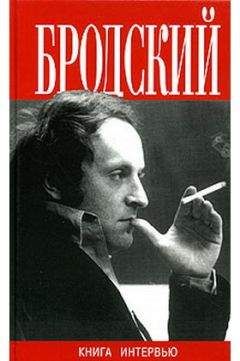И сразу же встал вопрос, а не похоже ли это на Бродского? Много было и есть людей, которые подражали Бродскому, имитировали Бродского. Это то, что я себе запрещал в первую очередь. Я развивал в себе вычеркивающий механизм на случай, когда ненароком что-то сказалось в чужой идиоме. И мне показалось: нет, не похоже. Я перечитывал, прикидывал на все лады — нет, не похоже. Хотя еще более глубоко внутри я знал, что это написано только потому, что нет Бродского. Потом появилось еще десять-двадцать стихотворений. В 1974, кажется, году зимой мы с Ниной и с Володей Герасимовым[194] поехали в Пушкинские горы, и я им там впервые рискнул почитать свои стихи. Это были самые строгие слушатели, каких только я мог найти. Я вдруг увидел то, что нельзя сымитировать в нашем кругу, где стихи бесконечно читались и обсуждались: живой интерес. В значительной степени это объяснялось тем, что они никак от меня не ожидали, что я вдруг стихи начну писать.
Вы, кажется, напечатали первое стихотворение Бродского в Союзе. Расскажите, как это вам удалось.
Да, это было стихотворение "Буксир", которое я пробил в журнале "Костер". Он принес мне длинное-длинное стихотворение, сентиментальное, но ужасно меня тронувшее, как и все, что он тогда писал:
Я — буксир.
Я работаю в этом порту.
Я работаю здесь.
Это мне по нутру.
Подо мною вода.
Надо мной небеса.
Между ними
Буксирных дымков полоса[195].
Типичная ленинградская акварель в духе ленинградских художников, в духе Марке, вроде Лапшина. И у меня щелкнуло в сознании, что как раз вот это и может пробить все рогатки. И я разработал нехитрую тактику. Сначала я показал это своему другу Феликсу Нафтульеву. Он был лет на десять старше Бродского. Вкусы его не совпадали с нашими, но я знал, что это стихотворение имеет шанс ему понравиться в силу своего откровенного романтизма. Так и вышло. Еще один талантливый человек тогда служил в "Костре" — Саша Крестинский. Вместе мы начали обрабатывать других. Вынесли на редсовет. Редактором у нас была партийная функционерка Галина Чернякова. И кто-то, либо она, либо ее заместитель, сказали: "Ну, что там за стихи? " Имя Бродского они немножко знали, и уже тогда оно вызывало у них опасные ассоциации. И мне сказали: "Прочитай!" Я стал читать. Я старался изо всех сил декламировать в том духе, в каком это им бы понравилось. Бог мне простит. Я читал, читал, читал. И я вижу, как их глазки затуманиваются сонливостью, они заклевали носами. Потом кончил. Мои друзья, как было договорено, стали галдеть: "Замечательно! Талантливо! Напоминает Багрицкого!" И т.д. И тогда начальство, уже размякшее, сказало: "Ну, давайте напечатаем. Только слишком уж длинно. Что мы, полжурнала займем, что ли?" Я уже с Иосифом сговорился, мы как-то сократили. И напечатали. Даже цветную вкладку нарисовал художник Ветрогонский, если не ошибаюсь. Это была первая публикация Бродского.
При вашей любви к Бродскому, при вашем понимании его величины и ценности для русской литературы, все ли вы принимаете у него или что-то принимаете только с оговорками?
Все, без оговорок. Хотя я человек золотой середины и многие мои взгляды не отличаются от общераспространенных, но вот здесь я, может быть, немного своеобразен, потому что для меня не существует хороших и плохих стихов у тех поэтов, которых я считаю поэтами. Я их принимаю абсолютно и полностью, любого поэта без исключения. Тут можно назвать Алексея Толстого и Фета, Некрасова... И, конечно, Иосифа, с которым меня связывает более тесная дружба, чем с Алексеем Толстым.
Вы разделяете с Иосифом судьбу поэта в изгнании. "Жизнь в чужой языковой среде, со всеми вытекающими последствиями, это испытание," — говорит Бродский[196]. Разделяете ли вы эту его мысль? В чем вы находите силы для такого испытания?
Я разделяю в том смысле, что всякий поворот в жизненных обстоятельствах является для человека испытанием — психологическим, личностным, профессиональным. Но я, по правде сказать, не согласен с постановкой вопроса. Если я правильно его понял, то получается так, что если бы я жил на родине, то писание стихов было бы для меня в каком-то смысле более легким или более комфортабельным и приятным занятием. В моем, по крайней мере, случае это абсолютно не так. Я думаю, что эмиграция для меня скорее и препятствие. Эмиграция — это масса других трудностей, чисто жизненных. Трудно жить в среде, которая никогда не станет для тебя родной, на каждом шагу это вызов и борьба, и победы, и, чаще всего, поражения. Но что касается писания стихов, то как раз это замечательные условия, потому что для писания стихов нужна свобода. И эмиграция очень помогает обретению внутренней свободы. Гениальное название книги Адамовича "Одиночество и свобода"[197]. Эта формула замечательна.
Этот вопрос был продиктован высказыванием самого Бродского. И это высказывание влечет за собой следующий вопрос. Не кажется ли вам, что Бродский находит духовную опору скорее в языке, чем в вере?
Вы знаете, Валентина, лучше, чем кто бы то ни было, что Иосиф всегда категорически отказывается обсуждать вопросы веры. Наши познания в популярной психологии заставляют предполагать, что это означает абсолютную исключительность того места, которое вера занимает в его существовании. Но я считаю, что есть какие-то границы деликатности, которые современники не должны переступать. Мне смехотворны нападки на христианство Иосифа или иудаизм Иосифа, или атеизм Иосифа и т.д. У меня лично есть свои соображения на этот счет. Я думаю, что в русской литературе нашего времени, в русской поэзии после Ахматовой, Цветаевой, Мандельштама не было другого поэта, который с такой силой выразил бы религиозность как таковую в своей поэзии. В какой степени это отразилось на его поэтике, я об этом писал в своей статье о "Натюрморте" и еще кое-где[198]. Но обсуждать его личные верования я совершенно отказываюсь.
Мой вопрос относится не столько к его вере, сколько к языку. Вы согласитесь, что язык является одним из центральных персонажей его поэзии и прозы? Бродский утверждает, что его отношение к действительности продиктовано в значительной степени языком, а не наоборот. Как вы это понимаете?
На ваш вопрос можно ответить двумя способами. Во-первых, можно обратиться к Лакану и к Витгенштейну, чего я делать не буду просто в силу своей малой эрудиции. А другой ответ практически идентичен первому и очень простой. Этот человек с 16 лет живет языком, Это его способ существования. Мама ему сказала, когда ему было 13 —14 лет: "Почитай "Полистан" Саади. Это красивые стихи"[199]. Ему понравились эти стихи. Я не хочу сказать, что из-за Саади Бродский стал писать стихи, но это был один из толчков, импульсов. Но, допустим, этого не произошло и он не нашел этой формы самореализации. Что бы было тогда? Такая колоссальная жизненная энергия — тот самый талант библейский, который ему дан и который он предпочел не зарыть в землю. Гипотетически он мог бы выразиться как-то по-другому, в политической деятельности, в религиозной деятельности. Я хочу сказать, что язык, о котором Иосиф говорит обычно в религиозных терминах, это все-таки форма знаковости, так или иначе. А для человека масштаба Бродского это форма его выполнения собственного назначения, его форма проживания собственной судьбы, форма согласия с провидением. Бродский, как никто другой, служит прекрасной, совершенно гениальной иллюстрацией к гениальным же строчкам Цветаевой из стихотворения "Бог", когда она писала о Его непривязанности к "вашим знакам и тяжестям"[200]. Удивительно, как много язык открывает из своего будущего поэту. Слово "знак" во время Цветаевой абсолютно не имело того практического значения, которое оно имеет для нас в наш семиотический век. Цветаева именно в сугубо семиотическом смысле формулирует своего Бога. Для меня здесь ключ к пониманию личности Бродского.
В ваших стихах, как и в стихах Бродского, наблюдается регулярное вживание лингвистических понятий и категорий в поэтическую ткань стиха. Чем это мотивировано? Что за этим стоит?
По правде сказать, я об этом просто не думал. Это интересная точка зрения. Хотя я в некоторой степени филолог, Иосиф —- нет. В этом сила Иосифа, сила его рассуждений о языке и литературе. Я же филолог, и мой принцип (если есть какие-то принципы в этом беспринципном занятии — писании стихов), что все годится в дело и что не нужно притворяться, по крайней мере в этой деятельности, тем, что ты не есть. Я занимаюсь литературоведением, интересуюсь лингвистикой. Это часть моего существования, я думаю, ничуть не менее жизненная часть моего существования, чем то, что я моюсь, хожу в уборную, сплю в кровати. Лингвистика сама по себе очень поэтична, весь язык — это метафора, изобретение метафор.