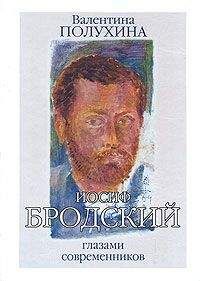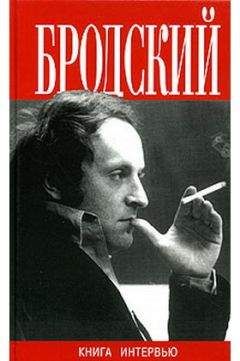Вы заметили в статье "Посвящается логике", что мировосприятие Бродского — это "некий над-человеческий, над-мирный взгляд на мир сверху"[207]. Сквозь какую призму вы смотрите на мир?
Сквозь книги, я бы сказал, сквозь культуру, и это сознательно выбранная призма.
О своей жизни вне России Бродский сказал: "Я рассматриваю свою ситуацию как проигрыш абсолютно классического варианта, по крайней мере, XVIII или XIX веков, если не просто античности"[208]. Так ли и вам видится ваша жизнь как поэта вне России?
Нет, я не рассматриваю свою жизнь как повторение какой-то классической модели. Бродский, видимо, имел в виду модель Овидиевой жизни: изгнание, ностальгия по имперскому центру и все такое, я скорее рассматриваю свою собственную судьбу как судьбу частицы в броуновском движении современного мира, я даже не уверен в том, что моя эмиграция была волевым актом, как мне казалось в какие-то моменты. Я думаю, что меня просто носит какой-то ветер. И в этом есть свои преимущества, в таком непредсказуемом движении судьбы, потому что это делает то, что ты видишь в жизни, несколько интереснее, неожиданнее. Можно представить, что если ты твердо ощущаешь свою жизнь как разыгрывание известной схемы, то ты уже в принципе не ожидаешь ничего непредсказуемого, ты знаешь уже, что в какой-то момент не придет ответа на просьбу о помиловании, не изменит возлюбленная, что ты никогда не вернешься в какой-то пункт и т.д. У меня таких ощущений нет, хотя жизнь моя внешними событиями не богата и, Бог даст, будет оставаться такой, я в то же время совершенно не знаю, что меня ждет за углом.
Вы, кажется, были первым, кто усмотрел философские параллели между Бродским и евразийцами, в частности, в оппозициях: Россия — Запад, ислам — христианство[209]. Чеслав Милош видит тесную связь Бродского с Шестовым и Киркегором[210]. Насколько философские посылки Бродского вторичны и поверхностны, или они оригинальны и глубоки? В чем их своеобразие и самобытность?
Что касается евразийства Бродского, то следует обратиться к первоисточнику, к Владимиру Соловьеву, а может быть, и к той русской традиции политической философии, которую можно проследить еще раньше: от Соловьева назад к Леонтьеву и еще дальше к тому, о чем мы слышали сегодня от Осповата, к началам русского политического самосознания, национальной идентификации как скорее восточной страны[211]. Я никогда не говорил, что Бродский разделяет евразийскую философию. На мой взгляд, — и это-то как раз интересно как культурный феномен — Бродский, исповедуя в общем-то скорее другую, космополитическую, концепцию истории, не имеет других рамок дискурса, нежели те, которые выработаны русской традицией геополитического мышления. Он пользуется языком, в том числе и политическим языком, Владимира Соловьева[212] и, естественно, Блока, не будучи большим поклонником Блока, как вы знаете, когда ему приходится обсуждать эту проблематику. Но он вступает с ними в полемические отношения, сплошь и рядом выворачивает наизнанку их идеи, он их отвергает, он их пародирует и делает всевозможные стилистические операции полемического характера. Но он, повторяю, все время говорит с ними на одном языке. Очень справедливо писал Жорж Нива, что Бродский тоже сын русского символизма, только взбунтовавшийся сын[213].
Что касается Шестова и Киркегора, то это относится скорее к области экзистенциальной философии, к философской антропологии, к теологии, к таким дихотомическим отношениям, как человек—мир и человек—Бог. И тут я мало что имею добавить. Я думаю, что Бродский в период своего мировоззренческого формирования попал под очень сильное обаяние Киркегора и Шестова и от этого не ушел.
Что стоит за всеми этими вопрошаниями, переоценками, пересмотрами, дальнейшими логическими домыслами Бродского? Не осознание ли это того, что мир и человек в конечном счете непознаваемы, и все, что остается делать философствующему поэту, это "идти на вещи по второму кругу" [К:63/II:211], посмотреть на все под новым углом зрения, задать несколько вопросов, не надеясь получить ответ? В чем суть его философствования?
Я думаю, что философия Бродского, по определению, есть философия вопросов, а не ответов. Наверное, в этом смысле Бродский не так уж оригинален. Я не очень хорошо подкован в истории философии, но, по крайней мере, в платонической традиции философ — это тот, кто ставит вопросы, а не тот, кто дает ответы. Этим философия и отличается от квазифилософских, утопических доктрин, типа марксизма.
Если бы нам удалось построить модель системы поэтического мышления Бродского, какие структуры в ней преобладали бы, русские или европейские?
Пушкинские, то есть русские, что и означает диалог русского человека с европейским.
Изменился ли вектор его миросозерцания после России?
Нет, не изменился.
Тогда почему же на уровне поэтики, которая у Бродского не только семантизирована, но и концептуализирована, его раннее увлечение англосаксонской поэтической традицией здесь на Западе столь заметно усилилось? Возьмем хотя бы такие качества его поэтики, как некоторую холодность его медитаций, интонационную монотонность, "стремление нейтрализовать всякий лирический элемент, приблизить его к звуку, производимому маятником", о чем он сам говорит[214], разве они не демонстрируют отклонения от русского менталитета?
Я не думаю, что это так. Конечно, поэтика Бродского меняется. Конечно, если мы возьмем какое-нибудь стихотворение, написанное в 90-м году, и сравним его со стихотворением, написанным в 60-м году, то контраст будет разителен с точки зрения поэтики. Но, на мой взгляд, еще более разительно будет то, что скрытые структуры поэтического мышления (менталитета поэта), которые мы можем обнаружить в стихах, разделенных тридцатью годами, будут на удивление одними и теми же. Бродский в этом отношении слишком генетически оригинальная личность, чтобы внешние обстоятельства могли повлиять на основу его идиостиля. Его сознательной работой над собственной поэтикой действительно было усвоение поэтики англоязычной поэзии, л писал и всегда говорю, что это, на мои взгляд, удивительно русская черта в поэтическом творчестве Бродского. Это то, что делал Пушкин и пушкинская плеяда с французской поэтикой; это то, что делали русские лирики середины XIX века, моего любимого периода в русской лирике, с Гейне и с немецкой поэтикой; Бродский произвел то же самое с великой английской поэтикой, прививая ее к советскому дичку. Но в этом отношении интересно, на мой взгляд, другое. Бродский, живя уже почти 20 лет в англо-американской культурной среде и будучи очень внимательным, несравненно более внимательным и образованным читателем поэзии на английском языке, чем я, оказался не очень-то восприимчив к тем кардинальным изменениям, которые произошли в англо-американской поэзии за последние 30—35 лет. Вот один пример. Я не буду говорить о популярных именах, таких, как Аллен Гинзберг, о тех, кто не имеет ничего общего с Бродским поэтически. Возьмем тех, кого Бродский сам выделяет как лучших поэтов, пишущих сейчас по-английски. Есть какие-то черты сродства между Бродским и Ричардом Уилбером, но вот Марк Стрэнд, которого Бродский иногда называет лучшим американским поэтом[215]. Я затрудняюсь увидеть хотя бы какое-то родство между поэтикой Бродского и поэтикой Стрэнда. Кстати сказать, меня лично поэтика Стрэнда восхищает, и я бы мечтал создать русские эквиваленты этой абсолютно новой для нас поэтики; очищенной от риторики, как мы ее понимаем, поэтики прозы, образность которой передается чисто описательными, прозаическими средствами, а поэтический эффект возникает в результате композиционного манипулирования этими описаниями[216]. Вот это очень мало характерно для Бродского. Он никогда не отказывался от риторики. Он ее изощряет до невероятного мастерства, но он сугубо риторический поэт.
Что именно в мировоззрении Бродского хотело быть выражено поэтикой английских метафизиков?
Мы уже говорили о том, что мировоззрение Бродского определяется философским экзистенциализмом Киркегора и Шестова. Достоевского, разумеется. Сюда же относится и экзистенциализм 40—50-х годов, который был в культурном воздухе эпохи, когда воспитывался Бродский. Но в русской поэзии не было средств для воплощения такого рода медитаций. В европейской поэзии они были, так как проблематика экзистенциализма и метафизическая проблематика эпохи, барокко имеют весьма много общего: одиночество человека во вселенной, противостояние человека и Бога, вопрошание самого существования Бога. Поэзия европейского барокко естественно пришла к поэтической форме, адекватной такого рода философствованию, к кончетти, к логизированию в стиховой форме, к гипертрофии развернутой метафоры. Но важно только не забывать, что мы имеем дело не с риторикой как упражнением (иногда в поэзии может иметь место и риторическая фигура как искусство для искусства, и очень даже изящно). Мы имеем дело с риторикой, которая выполняет необыкновенно важную и существенную задачу. Вот постоянно цитируют: "Поэт — издалека заводит речь. Поэта — далеко заводит речь"[217]. Для Бродского это практическое описание его работы, как, вероятно, было для Эндрю Марвелла или Джона Донна. В отличие от поэтов более поздних эпох, когда поэт-метафизик или, скажем, Бродский принимается за стихотворение, он ведь не знает, что он хочет сказать. В XIX веке поэт сплошь и рядом знал, что он хочет сказать, а потом искал адекватную поэтическую форму. Тютчев, например. Тогда как метафизик искал только исходную метафору, разворачивал ее, и метафора сама по себе приводила его к результатам, которые, возможно, его самого ошеломляли. Бродский в своих метаописаниях, как вы знаете, часто изумляется тому, куда же его, до какого Киева язык довел. Цветаева шла по тому же пути. Но до Бродского такой далекой барочной метафоры в русской поэзии не было. Сразу же скажу, что я отнюдь не уверен, что она будет после Бродского. И если я иногда встречаю сейчас в журналах стихи молодых поэтов, в которых используется распространенная метафора, она используется, по-моему, слишком внешне, поверхностно. Я не нашел еще ничего сравнимого с Бродским. Пока это все на уровне имитации внешне стилистических принципов.