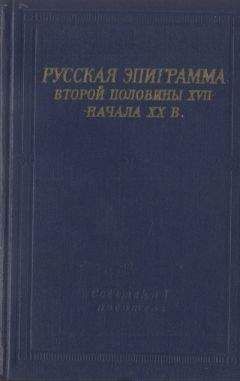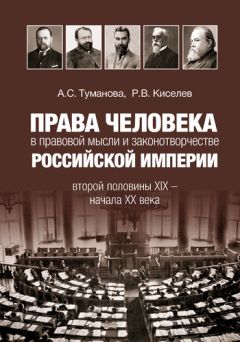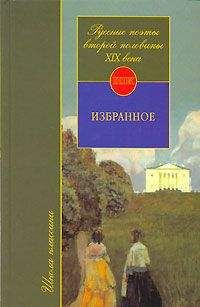института Александр Коваленков намеренно подтасовал прошлое, когда сообщил читателю, что ему в первой половине 1930-х годов «запомнились» «желчные вздохи» Мандельштама «о невозможности реставрировать на буржуазный лад принципы античного искусства» [184]. С противоположными и «благородными» целями (представить Мандельштама не «буржуазным», а сочувствующим революции поэтом) к явной лжи прибегнул в своих «оттепельных» мемуарах Михаил Слонимский, так «вспомнивший» о мандельштамовской реакции на Кронштадтский мятеж 1921 года:
Он любил матросов Балфлота, и матросы Балфлота любили его. В дни кронштадтского мятежа он, встретившись со мной, схватил меня за локоть:
– Они не придут? Они не могут, не должны придти! Они не придут!
Он весь дрожал от возбуждения. Он горел, заклинал, верил, этот поэт, впоследствии оклеветанный и погибший.
«Они», белогвардейцы, не пришли. Конечно не пришли. Балфлотцы сказали им свое весьма увесистое и грохочущее слово [185].
Еще одним препятствием между подлинной личностью давно умершего человека и современным читателем часто становится умолчание мемуариста о тех или иных обстоятельствах, обнародовать которые он по разным причинам не хочет. Подобные умолчания почти всегда приводят к искажениям. Так, например, в мемуарах Ольги Ваксель, в которую Мандельштам был коротко и бурно влюблен, сообщается целый ряд нетривиальных подробностей о взаимоотношениях между Ваксель, поэтом и его женой:
Иногда я оставалась у них ночевать, причем Осипа отправляли спать в гостиную, а я укладывалась спать с Надюшей в одной постели под пестрым гарусным одеялом. Она оказалась немножко лесбиянкой и пыталась меня совратить на этот путь. Но я еще была одинаково холодна как к мужским, так и к женским ласкам. Все было бы очень мило, если бы между супругами не появилось тени. Он, еще больше, чем она, начал увлекаться мною. Она ревновала попеременно то меня к нему, то его ко мне. Я, конечно, была всецело на ее стороне, муж ее мне не был нужен ни в какой степени [186].
Узнав о существовании мемуаров Ваксель и в пересказе услышав некоторые подробности из них, Надежда Мандельштам 8 февраля 1967 года в панике писала Александру Гладкову:
Теперь вот чего я боюсь. Все началось по моей вине и дикой распущенности того времени. Подробностей говорить не хочу. Я очень боюсь, что это есть в ее дневнике (надо будет это как-то нейтрализовать). <…> Вот моя проблема: я бы хотела знать подробно, что в этом дневнике (вместе с эротикой) [187].
В итоге воспоминания Ольги Ваксель удалось «нейтрализовать» (то есть не пустить в широкий оборот) на несколько десятилетий, а Надежда Мандельштам в своей «Второй книге» публично нанесла Ваксель упреждающий удар большой силы. Она умолчала о том, что сама была увлечена Ольгой, и это умолчание привело к очень сильному и сознательному искажению взаимоотношений в любовном треугольнике, сложившемся зимой 1925 года: «Ольга стала ежедневно приходить к нам, <…> отчаянно целовала меня – институтские замашки, думала я, – и из-под моего носа уводила Мандельштама» [188] и т. д.
Наиболее сложным и неоднозначным видом препятствия можно счесть ошибочное (или потенциально ошибочное) понимание и, соответственно, последующую ошибочную (или потенциально ошибочную) интерпретацию свидетелем того или иного наблюдавшегося им события. Чуть подробнее рассмотрим с этой точки зрения только один и не слишком значительный эпизод из биографии Мандельштама.
11 января 1921 года в помещении школы ритмического танца Л. С. Ауэ ра состоялся костюмированный маскарад литераторов. В воспоминаниях о Мандельштаме, путая место проведения маскарада, Николай Чуковский так рассказал о появлении поэта на этом вечере:
Обликом он в те годы был отдаленно похож на Пушкина – и знал это. Вскоре после его приезда в Доме искусств был маскарад, и он явился на него, загримированный Пушкиным – в сером цилиндре, с наклеенными бачками [189].
Сходным образом, но с большим количеством эффектных подробностей писала о том, как Мандельштам для маскарада «переоделся Пушкиным», Дориана Слепян:
Вспоминаю, как среди костюмированных появился Осип Мандельштам, одетый «под Пушкина» в цветном фраке и жабо, в парике с баками и в цилиндре. Стоя на мраморном подоконнике громадного зеркального зала, выходившего на классическую петербургскую площадь, в белую ночь читал свои стихи. Свет был полупригашен, портьеры раздвинуты, и вся его фигура в этом маскарадном костюме на этом фоне, как на гравюре, осталась незабываемой [190].
Надежда Мандельштам, свидетельницей этого эпизода не бывшая, тем не менее темпераментно опровергла процитированный эпизод из воспоминаний Чуковского в одном из писем к Никите Струве (мемуары Слепян она не читала):
Николай Чуковский <…> пишет, например, что О. М. был похож на Пушкина и знал это, и пришел одетый Пушкиным на костюмированный вечер. На Пушкина он похож не был, имени Пушкина всуе не упоминал, и в Пушкина не рядился [191].
В констатации вдовой поэта «имени Пушкина всуе не упоминал» слышится отзвук следующего ахматовского замечания:
К Пушкину у Мандельштама было какое-то небывалое, почти грозное отношение – в нем мне чудится какой-то венец сверхчеловеческого целомудрия [192].
А в категорическом суждении Надежды Яковлевны «На Пушкина он похож не был» ощущается раздражение не только против Николая Чуковского, но и против ненавистного ей Георгия Иванова. Задолго до Чуковского Иванов с удовольствием рассказал в мемуарном очерке о Мандельштаме следую щий анекдот:
…он был похож чем-то на Пушкина… Это потом находили многие, но открыла это сходство моя старуха горничная. Как все горничные, родственники его друзей, швейцары и т. п., посторонние поэзии, но вынужденные иметь с Мандельштамом дело, она его ненавидела. Ненавидела за окурки, ночные посещения, грязные калоши, требования чаю и бутербродов в неурочное время и т. п. Однажды (Мандельштам как раз в это время был в отъезде) я принес портрет Пушкина и повесил над письменным столом. Старуха, увидев его, покачала укоризненно головой: «Что вы, барин, видно, без всякого Мандельштамта не можете. Три дня не ходит, так вы уж его портрет вешаете!» [193]
Казалось бы, воспоминания Дорианы Слепян, подкрепляющие мемуары Николая Чуковского, опровергают Надежду Яковлевну и превращают ее нежелание признавать, что Мандельштам предстал на маскараде в школе ритмического танца в образе Пушкина, в еще одну попытку умолчания. Однако на деле все не так просто. Поскольку загадка почти любого маскарадного костюма и грима может разгадываться неоднозначно, закономерно будет спросить: а точно ли Мандельштам стремился изобразить именно Пушкина? Та же Одоевцева вспоминает следующие обстоятельства подготовки поэта к маскараду:
Мандельштам почему-то решил, что появится на нем немецким романтиком,